|
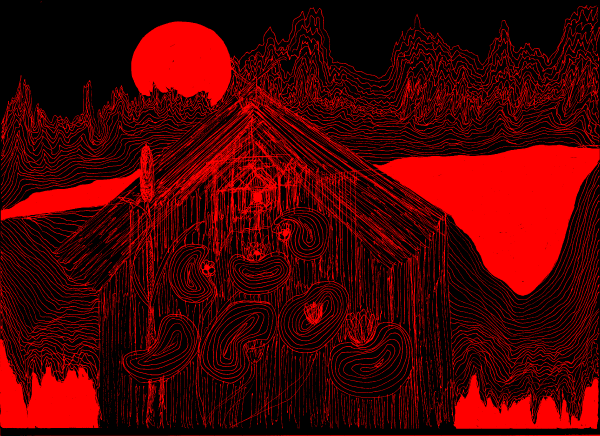
В люди
Змея ползла к людям. Ее влекло к ним. От них исходило тепло, как от огня,
и подземный холод, впитанный ее чревом, отпускал.
Путь был равен времени от заката до рассвета. Тьма сливалась с ее шкурой,
укрывая и защищая. Ни хищные птицы, ни коровы, ни собаки тогда не могли
причинить ей вреда. А их слeдовало опасаться! С первых дней своей змеиной
жизни она училась угадывать появление врага. И научилась. Эта способность
предчувствовать опасность гнала змею прочь от себе подобных. Только с людьми
можно было долго и спокойно жить рядом: люди боялись змей. Но до их жилья
надо доползти.
Пока путь пролегал по сырой травянистой поверхности, трудностей не было
никаких. Но как только земной гул и тепло от человеческого жилья
приблизились, передвигаться стало труднее. Сначала необходимо было вползти в
гору, по песку. Здесь надо быть начеку: вдруг выскочит крыса или еж. Конечно,
топот от них слышен за версту, и вполне можно спрятаться под землю, но вдруг
не окажется подходящей щели или норы?
Благополучно достигнув вершины, змея, поймав первые рассветные лучи солнца,
замерла и, выбрав место под деревяшкой, стала врастать в землю, на день.
Приготовившись ждать, она погрузилась в сон. Очнулась змея от страшного
удара, как если бы в землю вбивали кол. Не успев опомниться от этого удара,
она содрогнулась от второго, третьего...
Кто-то колол дрова. Поленья со звоном разлетались по сторонам, падая одно на
другое, образуя кучу. Под такой кучей и оказалась погребенной змея, устроившаяся
на день рядом с поленницей. Эта пытка, казалось, никогда не кончится. От
ужаса она сжалась в клубок и только вздрагивала всем своим змеиным телом,
когда очередное полено падало в кучу. Бррры-мс, брррым-с! Конечно, это лучше,
чем извиваться в клюве хищной птицы или судорожно биться в зубах ежа, но ужас
не меньший. Вдруг все стихло. Всем нутром своим ждала она очередного удара,
но было тихо, до звона в голове. Постепенно стало проникать тепло сквозь
набросанные сверху поленья. Змея расслабилась и наслаждалась тишиной, теплом
и покоем. Не зря ползу. С людьми так и будет: тепло, покойно и тихо. А если
что, то и укусить можно. Я знаю, они боятся.
Когда солнечный свет перестал просачиваться сквозь поленья, а заскользил по
касательной, змея поняла, что солнце садится. Это были самые благодатные
минуты. Нагретые за день поленья и земля стали отдавать тепло. Все стихло.
Тишина застыла на многие километры вокруг. Только изредка слышалось редкое
постукивание то здесь, то там. Змея попыталась выбраться, следуя просвету
среди поленьев, но, ткнувшись туда-сюда и наткнувшись на острые края, от
которых не было спасенья, потому что кругом были тупики, поняла, что сделать
это будет непросто, если не совсем невозможно.
Солнце садилось. В розоватых отблесках заката змея рвалась на волю. Она
хотела к людям и решила во что бы то ни стало вырваться из деревянной
западни. Она ползла на свет, продираясь сквозь маленькие щели по острым
занозистым краям. Не раз она вообще чуть было не рассталась с собственной
шкурой и уже почти похоронила себя в этом деревянном склепе, решив, что все,
конец. Но, собрав последние силы, рванулась к свету, нанося себе раны. Этот
немыслимо трудный путь показался бесконечным.
Солнце уже давно село. Ночная влага облегчила ее страдания, оросив и раны, и
поленья. Обессилевшей змее было легче продираться по мокрым деревяшкам. Она
чуяла, что цель близка, что еще рывок — и она на свободе. Так и было. Уже
начало светать, когда она поняла, что свободна. Туман рассеивался и на
горизонте выставлялся огненный край восходящего солнца. Алый свет охватил
лежащую на верхнем полене змею, окрасив все вокруг в розовый цвет, скрыл
змеиные раны. Она отдыхала, зная, что уже у цели. Вот только передохнуть и
набраться сил. Солнце стало пригревать, меняя алый цвет на желтый, становясь
ослепительным светом, и змея незаметно для себя уснула на припеке, не
удосужившись спрятаться под полено…
Вечером хозяйка ближайшего к прогону дома пошла прогуляться недалеко за
деревню, туда, где за огородами стояли аккуратно сложенные поленницы. Солнце
только что село, и все пространство на многие километры вокруг было объято
тишиной. Она дошла до поленниц и едва начала спускаться с горы, на которой
стояла деревня, как вдруг встала как вкопанная. Ее внимание было привлечено
необычным предметом, валяющимся на дороге. Холодком пробежался между
лопатками страх: змея! Откуда она здесь? Так близко к деревне. Хотя
немудрено, пойма ведь рядом: вот она, стоит только спуститься с горы. А в
былые времена по большой воде змеи выползали чуть ли не в огороды и вполне
могли поселиться где-нибудь под досками в предбаннике, а то и на дворе.
Предмет не подавал признаков жизни. Женщина подошла поближе и наклонилась.
Змея была мертва. Тело ее застыло в скрюченной позе, будучи переломанным и
изуродованным до неузнаваемости. Какая необычная, красивая расцветка, —
подумала женщина, — жаль. То ли дровоколы забили и бросили на дорогу, то ли
коровы затоптали: стадо как раз здесь ходит. Надо же, у самой деревни!
К людям змея так и не доползла.
Жизнь
...чтобы смертное поглощено было жизнью.
(2Коринф. V,4)
Зоя ждала своего часа. Того времени, когда ей уже ничто не сможет
помешать. Мужа она только что похоронила. Не сама, родственники помогли.
Теперь они остались вдвоем с ребенком. Все считали его ее сыном, но она-то
знала, что это не так. Поэтому и не старалась особенно что-то для него
сделать, когда выяснилось, что он серьезно заболел. Все удивлялись, но она
молчала. Полжизни она искупала тяжкий грех молодости. Тот учитель уже давно
сгинул в круговороте времени, а она все еще несла свой крест. Да так, что ни
сесть, ни поесть толком некогда было. А именно еда была для нее основным
содержанием и самым сильным наслаждением.
Это Зоя поняла не сразу, а только когда смогла заметить, что она каждую
свободную минуту использует для еды. Пожалуй, это произошло после истории с
тем учителем. Ей было шестнадцать, она жила в старом доме на берегу реки. Дом
был большой, и поэтому учителя поселили к ним. Ничем не примечательный тихий
человек в очках и с бородкой, он отличался от деревенских парней
вкрадчивостью и обходительностью. Ее созревшее тело — кровь с молоком —
требовало мужского внимания, и незаметно тихие вечерние беседы за чаем
перешли в постельные занятия. Неприятная поначалу близость скрашивалась его
обходительностью, а потом что-то проснулось в ней: алчное, животное — оно не
давало покоя, перерастало в желание быть с мужчиной, а если нет, то утолять
волчий голод. И тогда она поглощала все без разбора. Почувствовав тяжелое
насыщение, успокаивалась. С такой же алчностью она стремилась насытиться и
им. И в нем тогда просыпалась животная сила. Им было хорошо настолько, что
они потеряли осторожность и были застигнуты родителями. Единственным условием
спасения от позора было немедленное исчезновение учителя. Позор удалось
скрыть, но скоро обнаружилось, что она беременна. Этим, наверное,
оправдывался ее постоянный голод. Зоя ела и ела, поправилась, раздалась в
бедрах, а живот был небольшим, не очень выделялся, да и погода становилась
прохладнее, и под широким пиджаком и юбкой живот и вовсе не был виден. На
людские глаза Зоя все равно старалась не попадаться, и только осенью, в
октябре, поехала на машине вместе со всеми в лес, по ягоды: клюква была в
самый раз. Болото большое, все разбрелись, кто куда, и Зоя осталась одна. Она
помнит, что, наклонившись за красной крупной клюквой, как раз почувствовала
схватки. Стали отходить воды. Она испугалась и хотела закричать, но не
посмела и уползла в можжевеловые кусты. Там она и родила. Ребеночек был
маленький, синенький, пищал как-то слабо. Мальчик. Она не знала, что с ним
делать. Оправилась немного, посмотрела, посмотрела и — будь что будет! —
разрыла мох и мягкую землю, спрятала туда все это месиво вместе с ребеночком
и закопала. Чувств она никаких не испытывала. Насобирала немного ягод,
набросала сверху папоротника и, завязав корзину платком, двинулась в сторону
голосов, к машине. Как возвращались, не помнила, но помнила, что, приехав
домой, все ела и ела и никак не могла насытиться. А потом заснула и спала
целые сутки. Проснулась она другим человеком. Надо было уезжать.
Отчий дом Зоя оставила без сожаления. Она завербовалась на производство, как
тогда говорили. Это было строительство железной дороги. Там и встретила
своего будущего мужа. Он был машинистом паровоза, возившего по узкоколейке
лес, стройматериалы, рабочих и вообще все. Машинист немного стеснялся,
оставаясь с ней один на один, и поэтому ее опыт в любовных делах пригодился.
Он был страшно доволен, и ей нравилось, что не надо ни от кого скрывать своих
отношений. К зиме решили пожениться. И комнатка в бараке была обеспечена. Эта
комнатка и сыграла судьбоносную роль в их жизни. Мужнина сестра нагуляла
ребенка, хорошенького мальчишечку. Но жить с ребенком ей было негде, домой
тоже с таким довеском не явишься, – и решила сестра отказаться от малыша:
оставила в родильной и сбежала в неизвестном направлении. Врачи и обратились
к брату. Подумали, подумали молодые ? и усыновили младенца. Так случайно
составилась их семья. Зоя увидела в этом божий промысел: за одну погубленную
душу придется другую воспитывать. Она и принялась воспитывать.
Главное – накормить ребенка и чистоту соблюсти. Вот и кормила. О еде для себя
как-то не думала, и только когда ребенок окреп и подрос, она вспомнила о еде.
Опять стал возникать волчий голод. И пока не появлялась возможность его
утолить, ни о чем другом думать не могла. Особенное наслаждение она
испытывала, если удавалось поесть в одиночестве, когда никто другой не
претендовал на ее еду, не нарушал трапезы. Она покупала то, что ей нравилось,
и устраивала настоящее чревоугодие. При других она есть не могла, еда не
доставляла настоящего удовольствия, а все думали, что она ничего не ест. И не
истощается.
Тайную страсть к еде могла заменить только любовная страсть, когда она с
наслаждением могла насыщаться мужчиной. Зоя была невзрачная, довольно
решительная и недобрая, поэтому, скорее, отпугивала мужчин, чем привлекала. А
собственный муж уже не доставлял такого наслаждения, как раньше. Он все
работал, затевая какие-то дела с целью заработать как можно больше, истощался
и все время хотел есть. Ее это раздражало, но готовить и кормить его и
ребенка она продолжала исправно. Еда уже становилась содержанием и целью
жизни, уже фигура стала утрачивать нужные для хорошего самочувствия формы и
характер стал портиться, когда, наконец, Зоя завела себе любовника и смогла
отвлечься от еды. Они познакомились случайно, по телефону – он ошибся
номером: слово за слово, разговорились, решили встретиться, а встретившись,
сразу почувствовали влечение друг к другу. Зоя оживилась, ждала звонка, потом
встречи, потом опять звонка, опять встречи, И так все время. Она забыла о
еде, она питалась страстью. Глаза ее заблестели, появился лихорадочный
румянец, тело стало упругим и сильным, движения плавными и уверенными. На нее
стали оглядываться. Она тоже стала смотреть по сторонам и улыбаться, видя
себя в глазах любопытных. Зоя была поглощена этой страстью, забыла и о муже,
и о сыне, наблюдая за тем, как ликует все ее нутро. Вскоре она заметила, что
любовник стал избегать встреч с ней, а во время свиданий заговаривал об
устройстве жизни, о своем доме. Она еще не успела разобраться, что к чему,
как он сообщил ей, что нашел себе женщину, женится и будет строить семью.
Больше они не виделись. Зоя была разбита. Утешения искать было не у кого. Она
попыталась переключиться на мужа, но он как-то сник и угасал прямо на глазах.
Выяснилось, что у него рак толстой кишки и жить ему осталось недолго. Ребенок
вырос, пропадал в каких-то сомнительных компаниях и все больше отбивался от
рук. Ни там, ни там Зоя не могла найти отклика и с ужасом осознавала, что ее
жизненные силы уходят. И тут она снова почувствовала волчий голод, который,
как прежде, могла утолить лишь едой и только в одиночестве: теперь его не
надо было искать – одиночество стало самой жизнью. Муж часто лежал в
больнице, а сын, подолгу пропадая где-то, приходил домой отсыпаться и спал
сутками. Зоя нашла себе более или менее денежную работу на дому и, бегая по
магазинам и больницам, готовя обеды дома, мечтала об одинокой трапезе –
единственно возможной для насыщения. Она полюбила яблоки, без которых трапеза
не была трапезой, и ела их с жадностью, иногда в кровь раздирая оскоминой
рот, но не могла остановиться.
Мужа выписали умирать дома, и он тихо лежал в своей постели у окна, молчал и
ждал конца. При нем Зоя не могла насыщаться с упоением и мучилась из-за
этого. Но ждать оставалось недолго: муж скоро умер – тихо и незаметно, как и
жил все последние годы. Тут же выяснилось, что ребенок тоже серьезно болен:
острый лейкоз. Необходимо было специальное дорогостоящее лечение, которое
было ей не по карману. Она впала в отчаяние, но делать ничего не делала:
возникшее отчуждение трудно было преодолеть из-за того, что ребенок был
неродной. Ей стало все равно. Единственное, что тревожило, так это возрождающееся
чувство греха, червем точащее ее изнутри. Возникающее беспокойство она могла
задавить только одним способом – едой и все ела, и ела. За едой она и
получила печальное известие: ребенок умер в больнице в результате мгновенно
развившейся инфекции. Зоя не стала даже забирать его оттуда, сославшись на
отсутствие денег. Она помучилась какое-то время и затихла.
И вот ее час настал: теперь ничто не могло отвлечь. Надомная работа не
занимала много времени, принося доход, достаточный для проживания. Магазинов
и фруктовых лавок в округе было много. Была осень, и был урожай яблок. Она
уже присмотрела себе подходящие и, закупая их в больших количествах, так,
чтобы подолгу не выходить из дома, жила в предвкушении удовольствия, а потом
наслаждалась от вкушения. С каждым днем удовольствие от поглощения яблок и
другой еды возрастало, и Зоя жевала без перерыва. Она перерабатывала огромное
количество еды и уже давно не выходила из дома. Ноги ее стали тонкими и
слабыми, живот раздулся, дыхание стало частым и неглубоким, мышцы ослабели и
она с трудом ходила даже по квартире. Зато крепкими были челюсти и ощущение
полноты и насыщенности жизни.
Пустота
...пустота будет внутри тебя...
(Мих. VI,14)
Бывают приятные дни и в большом городе. Сегодня с утра идет дождь. Сначала
он мягко барабанит по карнизу окна, заставляя проснуться, а потом
сопровождает утренний застольный ритуал: сидишь на кухне и пьешь крепкий
свежезаваренный чай с лимоном и сушками. Даже радио не включаешь, чтобы не
нарушить тишину дома и отбиваемый струйками ритм дождя. Тонкий чайный аромат
заполняет все вокруг, проникает в глубину сознания и вызывает то состояние,
которое постепенно переходит в творчество.
***
Наверное, начну сегодня новую пьесу... Сразу представилось: театр, сцена,
дирижер... Теперь мне хорошо, никто не мешает, свободно, дом — мой. Пожалуй,
надо прогуляться, — думал он, натягивая ботинки. — Зонта нет, но хватит
куртки и кепки.
Роман вышел на улицу. Апрельский влажный воздух ударил в нос так, что потекли
слезы. Роман закашлял, вытирая их. Весна, — подумал он, — задохнуться можно!
Дождь был несильным, моросящим. Не растаю. Так приятно идти по мокрому
асфальту. И не холодно. А какой пьянящий воздух! Он шлепал по мелким лужам,
идя вдоль забора. Когда забор кончился, он встал как вкопанный перед огромной
лужей. Рябь от моросящего дождя не разбивала отражения дома вместе с крышей.
Нахлынуло ощущение новизны, как в детстве: теплый воздух, дом в луже — и
весна... Пока он шел до автобусной остановки, в памяти всплывали мокрый
песок, секреты, земля во дворе, изведанная до последнего сантиметра так, что
можно было увидеть первый желтый цветок, первую жужелицу и червяка...
Автобус подошел сразу, почти пустой. Вот хорошо! Он сел у окна, и дорожки от
капель дождя повели его за собой. Такого прекрасного и спокойного чувства
одиночества не вызывало в нем никакое другое состояние природы. Когда-то
давно, в детстве, он вот так же сидел у окна, отгороженный от дождя, и водил
пальцем по стеклу, следуя струйным дорожкам. И вот тогда он услышал музыку
тишины, разбиваемую на такты ударами капель. Он так обрадовался! Я, я слышу
эту музыку! Она для меня! Только я, слышу только я! — кричало все в нем,
переполняя восторгом душу. Постепенно музыка отделилась от тишины и
зазвучала. Роман потом еще долго напевал ее, надеясь запомнить, удержать в
памяти до того момента, когда сможет записать. Прошло время. Когда он
мало-мальски стал разбираться с нотами, музыка ушла.
Появилось много всего другого. Окружающие стали старательно отмечать его
необычность. Сначала это были родители, потом их знакомые, потом знакомые
знакомых и друзья. Собственно, один друг. Роман был наполнен этим и решил,
что все из-за того, что только он слышал музыку дождя. Нет, другие тоже имели
право существовать, но вызывали интерес, если понимали, о чем он говорит, или
восхищались им. Так как-то жизнь сама собой подчинилась одной главной идее в
виде неясного желания.
Солнце не мешало. Он любил тепло. Но особенно теплые ночи, когда в свете
фонарей асфальт блестел, как после дождя, и деревья были теплые и тихие, и
людей было мало. Тогда и начиналась вот-вот готовая зазвучать тишина... Но не
звучала. Что-то мешало, или чего-то недоставало?
Автобус остановился. Пора было выходить. Надо же, дождь кончился, но асфальт
еще мокрый. Можно по лужам походить. Дойду до Тверской, а там видно будет.
Давненько не прохаживался по бульвару... У кого бы спросить, что здесь было
до нового здания театра? Он шел и шел. Под свинцовой тучей становилось
светлее, и даже проглядывало солнце. Кое-где подсыхал асфальт. Дышалось
легко, если не считать насморка, который затыкал нос и уши, и даже появилось
ощущение новизны.
На мгновение показалось, что, как воспоминание о дожде, начинает звучать
музыка, складываясь в звуки и такты. Роман не шел — парил над асфальтом и не
заметил, как оказался перед зеркальной дверью нового сверхмодного магазина.
Он остановился, не зная, что делать, но в тот же миг двери распахнулись и ...
На него хлынул поток света, негромкое звучание музыки, радужно переливался
фонтанчик, и среди экзотических деревьев он увидел неторопливо
передвигающихся от витрины к витрине дам. Сразу захотелось разуться. И тут —
будто потянуло сыростью, и он почувствовал запах прелого тряпья. Надо же, —
подумал Роман, высморкавшись, — в таком райском месте — и такая затхлость. Он
еще немного побродил по роскошному магазину, но не мог избавиться от запаха
плесени, который прочно засел в голове. Выйдя из магазина, он стал бродить по
малолюдной Тверской, ныряя и выныривая из небольших заведений, но все было
испорчено. Какой стойкий запах... Откуда же эта затхлость?
И тут он увидел девушку. Даже не девушку как таковую, а приятное глазу
очертание, какое-то удивительное соединение линий. Роман не мог оторвать
глаз. Он шел за ней и хотел, чтобы обернулась, и боялся. Надо же — не пахнет!
— заметил он.
Но остановить ее не смог. А вдруг желание, осуществившись, исчезнет? А так
еще с ним можно жить. Да и потом надо же исполнить свою роль, состояться как
мастер, создать пьесу, которая удивит и восхитит всех. Прекрасное слово
восхитит! Как вознесет. Все будут летать! Потому что он всем даст возможность
услышать музыку дождя.
Роман вдруг почувствовал голод. Надо зайти куда-нибудь поесть... И купить
что-нибудь домой. Мысль о еде согрела. Он любил есть, наслаждаясь.
Наслаждение едой возмещало отсутствие прочих наслаждений, и даже замещало их.
Во всяком случае, с таким разнообразием, какое давало обилие вкусовых
ощущений, ничто не могло сравниться. Тающий во рту ломтик душистого рокфора и
пряный бородинский хлеб, да еще крепкий свежий чай с лимоном, — Роман зажмурился,
— что может быть изысканнее? От столь живой картины слюни потекли. Понимая,
что уютного пристанища ему все равно не найти — прошли те времена, когда днем
на Тверской можно было тихо посидеть в полупустом кафе-мороженом, — он решил
купить все необходимое к чаю и поесть дома. Надо было вернуться на
Пушкинскую, чтобы спуститься в метро. Роман попетлял по переулкам и
подворотням и вышел к редакции «Moscow news». Пройдя мимо небольшого
крылечка, он готов был уже нырнуть в метро, как вдруг перед мысленным взором
возникла завораживающая картина: маленькое стоячее заведение под названием
«Шоколадница» или «Лакомка», где всегда был дымящийся горячий шоколад и
вкусные хрустящие, обсыпанные пудрой слойки с повидлом, а также марципаны,
кексы с изюмом, эклеры и миндальные лепешки. У него засосало под ложечкой.
Это же где-то здесь! Из двух похожих крылечек он выбрал правое и с замиранием
открыл дверь... Все было, как во сне. За круглой стойкой с высокими
витринами, сплошь заставленными подносами с выпечкой, восседали кассирша с
буфетчицей и тихо разговаривали между собой. Расположенные кругом вдоль
отделанных мрамором стен стойки и высокие столики с такими же высокими
круглыми стульями против высоченных окон, за которыми опять потемнело из-за
надвигающихся туч, были совершенно пустые. Послышались удары капель по
карнизу. Пережду здесь, — решил Роман, — заодно и поем.
Достав из кармана скомканный носовой платок — фу, ч-черт! — и кошелек, он
заказал чашку горячего шоколада и всю обсыпанную сахарной пудрой слойку с повидлом.
Есть такую слойку надо было очень осторожно, потому что если, откусывая,
неправильно вздыхаешь, то пудра душным облачком обволакивает рыльце,
забираясь в нос, щекочет ноздри, и если чихнешь, то слойка останется
разоблаченной, а белый столб сладкой пыли будет напоминать о внезапной
катастрофе. Роман подумал — и взял еще миндальную лепешку. Девушка-буфетчица
что-то говорила, а он видел шевелящиеся губы и ничего не слышал, потому что
уже стучал дождь. Он медленно нес две тарелочки к столику-стойке у окна, а в
голове складывался ритм. Было страшно, что сейчас возникнет музыка, а он не
успеет поставить пирожные и шоколад на стол. Наступил почти торжественный
момент. Роман опустился на сиденье. Перед ним, прокладывая дорожки по стеклу,
стекали струйки дождя, капли отбивали по карнизу ритм, из обрывков
воспоминаний, женских голосов, из глубины сознания вот-вот возникнет
музыка... Он добавил к ритму капель постукивание ложечки о чашку... Да, так
было всегда. Он откусил от божественной слойки кусок, выдувая облачко пудры,
и поднес чашку с горячим шоколадом к губам, чтобы отхлебнуть, и тут — ужас
холодком пробежал между лопатками –– пахнуло плесенью и все исчезло. Пустота.
Опять эта затхлость, — с тоской подумал Роман. — Откуда она здесь?
Все было испорчено. Он встал и пошел в метро.
Пройдя через опасно тугие двери и пропускные автоматы, Роман на эскалаторе
стал погружаться в подземелье, к поездам. Затхлость не отступала. «В какой
плесени мы живем», — думал он, все больше мрачнея. Мимо по эскалатору
проходили те, кому было невтерпеж; навстречу ему эскалатор нес наверх
желающих выйти на поверхность людей; внизу, на платформе такие же люди
сновали туда-сюда, скапливались в кучки, вновь растекались, смешиваясь с
теми, кого выпускали подходящие поезда, — все шевелилось, кишело и гудело.
Как тараканы. До чего же противно. Быстрее бы домой: сидеть за столом,
смотреть в окно на небо сквозь пересечение ветвей, работать... Осторожно!
Двери закрываются! Следующая станция... Ч-черт! Чуть не проехал! — Роман
выскочил, еле-еле успев спасти от захлопнувшихся дверей свою сумку. Злость
вытеснила ощущение затхлости, и он чуть-чуть расслабился. Надо все-таки
купить домой что-нибудь к чаю.
В гастрономе чего только не было! Окорок, пару лимонов, бородинский хлеб,
сыр, похожий по вкусу на швейцарский, зелень, яблоки — большие,
красно-зеленые и кисло-сладкие. Настоящий пир закачу: буду есть, что захочу.
Он шагал домой по сухому серому асфальту, не обращая внимания ни на что,
кроме своих растоптанных ботинок, так удачно вписывающихся в ту дорогу, по
которой он шел. В автобусе не поеду — противно. Не дай Бог, вернется эта
вонь. То ли дело — идешь себе по асфальту, думаешь. Дом был за садами, за
прудами, и Роману приятно было сознавать, что он идет к себе, в свою
квартиру, где на кухне – радио, в комнате — рабочий стол с системой, а за
окном — уходящие в небо ветви. Они расчерчивают небо за стеклом, на котором
дождь изливает свою душу. И обстановка торжественная, почти как в театре:
гаснет свет, загорается лампа у дирижера и...
Ощущение затхлости было у него не всегда. Оно появилось недавно, когда он
остался один в квартире, а родные уехали жить, кто куда. Тогда вернулось
ощущение пустоты. Он убрал с глаз все их вещи, чтобы была видимость порядка и
пространства. Главное – пространство. Его, конечно, не хватало, когда они
были все вместе: не свои книги и вещи занимали слишком много места, мешали. В
какой-то момент вдруг все это опротивело, и он стал задыхаться. Не желая себе
в этом сознаться, он страстно желал остаться один. Так и случилось. Теперь
никто не помешает слышать музыку дождя! Ему и в голову не приходило, что
кто-то еще может переживать, мыслить — куклы-марионетки в его пьесе. Главное,
он теперь сможет думать и выстраивать жизненные сюжеты, слушать порывы ветра
и музыку дождя.
Ощущение подпортил грязный подъезд. Мало того, что кошки продолжали гадить,
так еще и ремонт затеяли: ну просто все замазали побелкой. Он побыстрее
проскочил два пролета и вошел в квартиру. Здесь, кажется, не пахнет — запах
сырой побелки отдавал затхлостью, — а то хоть домой не ходи.
Роман прислонился к закрытой двери. Она неплотно прилегала, и немного побелки
попало в дом. Ч-черт! Этот ремонт. Теперь грязь тянется в квартиру. Белые
следы как постоянное напоминание о разрухе в собственном доме, не видевшем
ремонта тринадцать лет, раздражали его. Надо обшить дверь. Он высморкался и
сунул скомканный платок в карман.
Сумка с продуктами оттягивала руку. Столько еды! Роман вылез из ботинок и
прошел на кухню. Сразу вспомнились родственники. Все время от него
чего-нибудь хотят: то мусор, то ботинки, то не шуми, то не стучи. Из-за этих
посягательств на его свободу он делал все наоборот. Конечно, можно было не
ходить в ботинках по всей квартире, но он же ручку забыл на столе. Да-а,
как-то здесь пусто. Роман выложил на стол покупки и поставил чайник.
Поработаю пока.
В большой комнате он включил яркую лампу и компьютер. Все зашумело, стало
привычнее. Нет, телевизор будет мешать, пожалуй. И свет ни к чему. Компьютер
пусть останется: вдруг надо будет записывать. Ч-черт! Опять забыл про чайник.
Выкипел, небось... Чайник был наполовину пуст. Быстро заварив остатками воды
чай и сделав бутерброды, он начал жевать и запивать, почти не чувствуя вкуса.
Посуду потом помою, когда захочу.
На улице потемнело. Сверху нависли тучи, снизу чуть подсвеченные заходящим
солнцем. Все вокруг стало сиреневым. И стена соседнего дома. Но главное –
небо. Он сел за стол. Становилось все темнее и темнее, подул ветер, потом
стихло, тихо-тихо. Роман напрягся. Застучали капли по карнизу. И тут вдруг
ему стало нехорошо. Потянуло затхлостью. От отвращения закружилась голова. Он
упал на свой диван и стал ждать, чтобы стало легче. Перед закрытыми глазами
появился просвет, который гудел, перебиваемый размеренным ритмом падающих
капель. Карусель какая-то. От запаха тошнило. Капли, выбивая ритм, стучали и
стучали, что-то напоминая. Что?! Он не мог вспомнить. И тут вдруг он услышал
музыку. Дождь шумел, а она звучала все сильнее, сквозь шум и грохот. Он
вздохнул – и полетел к свету, растворяясь во все заглушавшей музыке.
Когда его нашли, в квартире было сыро и пусто. Соседи почувствовали на
лестнице странный запах и вызвали милицию и «Скорую помощь». В тот день шел
сильный дождь.
Антиномия
Мудрость лучше воинских орудий,
но один погрешивший погубит много доброго.
(Еккл. IX, 18)
— Послушайте, зачем вы ставите машину под наши окна?
— Что, нельзя?
— Неужели нет больше места? Ставьте под свои окна! Не видите, разве, что
здесь деревья посажены, трава растет. Некуда деться от ваших машин!
Коренастый человек в джинсах и полосатой футболке с мобильным телефоном в
руке как-то опешил и на мгновение застыл. Маня это почувствовала, и весь ее
пыл, с которым она выскочила на балкон, испарился, а гнев сменился на
милость.
— Это не моя машина, так что все претензии не ко мне, — человек продолжал
стоять, но уже готов был уйти. От возмущения Маня чуть не захлебнулась.
Отвечает профессионально: я — не я, и хата не моя!
— И что, вы ходите около чужой машины и рассматриваете ее?!
Он кивнул.
— Не моя машина, — он развел руками и, не торопясь, но легко и стремительно
пошел прочь, оглянувшись пару раз.
Маня слушала собственное сердцебиение и замышляла план страшной мести. Она
еще не успела придумать подходящую для нее форму, как вдруг услышала звук
заводимого двигателя. Выскочив на балкон, она увидела то, что ожидала: в
машине рядом с водителем сидел тот человек.
— Ну что, угоняете? ? не без ехидства спросила она.
Он что-то сказал водителю, улыбаясь, как человек, которого поймали, и, открыв
дверцу, вышел из машины.
— Тебя как зовут? ? спросил он тихо, но тоном, не терпящим возражений. Что-то
было такое в этом тихом вопросе и едва заметном замешательстве, что заставило
ее тут же ответить: Мария, ? и уже потом подумать: зачем сказала?
Это столкновение ее слегка возбудило, потому что она никак не могла
примириться с наступлением машин на место огромных деревьев, которые так
хорошо укрывали и защищали окна квартиры прежде, до урагана, учинившего в
Москве лесоповал.
Весь следующий день прошел в суетливой занятости на работе, потом она
допоздна засиделась у приятельницы и домой возвратилась в начале первого часа
ночи.
— Тебе кто-то звонит весь вечер и грубым мужским голосом спрашивает Марию, ?
сказал муж, слегка осуждая, но не слишком проявляя интерес.
Маня удивилась, но сразу подумала про вчерашнего собеседника. Значит, он
узнал ее телефон. Ну, конечно, ведь номер квартиры без труда можно вычислить,
а потом звони хоть в ЖЭК, хоть на телефонную станцию. Правда, там не с каждым
будут разговаривать. Неужели он и в самом деле "спец"? Она ходила
по квартире и раздевалась, развешивая разные части своего туалета по разным
плечикам, стульям и крючкам. И тут раздался звонок. Поздновато! ? подумала
она.
— Иди, это тебя, ? муж смотрел прямо в глаза и улыбался. Маня взяла трубку.
— Мария? Здравствуй, это Гавриил, можно ? Гарик, ? голос был хриплый и
низкий. Что-то он ей напомнил. Голос отца?
— Я не знаю никакого Гавриила! Вы уверены, что не ошиблись?
— Я не ошибся. Ты на меня вчера наехала. Я... Всю ночь не спал! Ты женщина
моей мечты. Мы соседи. Я уже год за тобой наблюдаю. Не знал, как подойти,
чтобы сказать.
— Мне, конечно, приятно это слышать, но...
— Ты не одна? У тебя что, гости?
— Какие гости? Муж!
— Муж? Ты разве замужем? Я думал, ты одна.
— Почему одна? Я уже давно замужем.
— Да ладно. Тебя можно украсть?
— Как это? Это, вообще-то, наказуемое дело.
— Я служу в таком месте, что сам кого угодно накажу. Давно думал украсть,
если бы не соседство. Меня тут каждая собака знает. Когда тебя можно украсть?
Тебе удобно говорить?
— Нет, не очень. А как вы узнали мой телефон?
— Это не проблема. Когда тебе можно завтра позвонить?
— В половине пятого.
— Я позвоню. До завтра.
Маня была несколько озадачена. Все выглядело, как в плохом кино, если бы не
страсть и искренность, с которой были произнесены слова про мечту и
бессонницу. И какой напор! Как быстро он узнал телефон!
— Представляешь, — она повернулась к мужу, — я вчера прогнала какого-то типа
с машиной от наших окон, а он говорит, что я – женщина его мечты и что он
давно наблюдает за мной во время прогулок с собакой.
— Он звонит весь вечер. Я уже то брал трубку, то не брал – упорно звонит и
требует Марию.
— Видимо, что-то заставило.
Маня занялась обычными приготовлениями ко сну, но легкое возбуждение не
проходило. Она не могла сразу поверить этому человеку, но едва уловимые
жесты, всплывающие теперь в памяти, волнение, интонации тихого низкого голоса
располагали к нему, заставляли волноваться. Маня ценила такое внимание, хотя
понимала, что долго питаемая мечта может разойтись с действительностью. Ну и
что! Любопытно просто посмотреть, что будет дальше. Узнавать о жизни из книг
не так интересно, как проживать ее непосредственно, а это волнительнее и
острее, и конец всегда скрыт, и страх неизвестности заставляет быстрее
принимать решения и совершать головокружительные поступки, одним словом –
жить, а не читать о жизни. За такими размышлениями Маня незаметно для себя
все приготовила ко сну: вывезла из угла и расправила кресло-кровать,
постелила простыни и отправилась в ванную комнату. Ее личная жизнь была
неинтересной, и с мужем они жили как добрые соседи. Это тоже располагало к
приключениям.
На следующий день был бассейн. Маня быстро собралась, вспоминая, что забыла,
а что нет. Не так давно она стала плавать в маске и смогла погружаться под
воду и видеть дно. В момент, когда дно отдалялось, возникало ощущение полета:
совершенно свободное тело в свободном парении под водой. Это было так
захватывающе, что поверхность воды переставала быть интересной. Маня плавала,
забывая обо всем, и выходила счастливая и обессиленная. Горячий мощный душ
расслаблял ее так, что перед уходом из бассейна хотелось посидеть в буфете,
выпить чаю, съесть мороженого, чтобы прошло головокружение и сонливость, и
согревающий чай растопил кровь в руках и ногах. Она уже почти приблизилась к
седьмому небу, как вдруг подсела давно знакомая официантка и стала говорить
про какого-то Мишу, который открыл свой бар в соседнем спорткомплексе, стал
таким крутым, ездит на джипе и что-то еще и еще, пока, наконец, Маня не
спустилась с небес на землю и не поняла, о ком идет речь. Вся томность сразу
пропала — она вспомнила, кто это. Мишаня!
Тогда, год назад, она тоже отправилась в буфет съесть мороженого и выпить
чаю. Там шла пирушка полноправных завсегдатаев, общих любимцев, бывших
спортсменов, собиравшихся раз в неделю «тряхнуть стариной» и отвести душу.
Теперь они пили, кто что, и вели шумную беседу. Когда она вошла, на секунду
все стихло, но она уже поняла, кто на нее посмотрел: огромный молодой парень
с круглым лицом. Как-то раз она его уже видела. Такое происходит неосознанно:
боковым зрением, даже, скорее, не видишь, а кожей чувствуешь совершенно
определенного человека — он! И вот он стоял у стойки, заказывал шампанское и
что-то из еды, а она сидела за маленьким столиком и пила чай. Он смотрел в ее
сторону и улыбался, явно приглашая к разговору. Она тоже улыбнулась, и тогда
он взял бутылку шампанского и подсел к ее столику. Потом взял шоколад и стал
все это распаковывать и распечатывать. Произносились какие-то дежурные фразы,
предложения угощаться и выпить. Тогда, она точно помнила, все это смешивалось
у нее с чувством незабываемого страха: выпьешь, а потом не расплатишься, — и
угощение не казалось столь привлекательным. Кончилось тем, что он оставил ей
номер своего телефона. Она смотрела на его шею, на которой висела толстая
цепочка, на самодовольную, но все-таки с легким смущением, позу. Какие-то
грубовато-пренебрежительные слова резали слух, но особенная улыбка смягчала
впечатление. Кого-то он ей напоминал. Она записала телефон, но звонить не
стала. Потом они опять встречались в буфете не раз. Он подходил и даже чуть
смущенно спрашивал, почему она не звонит. Потом, убедившись, что его не
преследуют, он дал другой номер и сказал, что это прямо ему. Она не позвонила
сразу, и потом, а когда спустя какое-то время позвонила, абонент был
отключен. И в бассейне он больше не появлялся. Связь пропала. И вот это о нем
говорит официантка. Значит, Мишаня преуспел. Его занятие было весьма
сомнительным: криминал — не криминал, но что-то роднило его с братвой.
Теперь, видимо, решил остепениться, дело свое завел. Любопытно встретиться.
Можно ли и как ему позвонить. Говорят, заходит иногда, надо оставить записку
официанту, тот передаст. Маня так и поступила. Теперь, после того как она
сделала шаг навстречу, оставалось только ждать.
Маня пришла домой. Мужа не было, он уехал по делам. Маня слонялась по
квартире, как вдруг зазвонил телефон. Она посмотрела на часы и вспомнила, кто
должен был звонить.
— Это я, привет. Ты можешь говорить? — низкий хрипловатый голос вчерашнего
знакомого опять напомнил ей отца.
— Да, спокойно, — и все лицо запылало.
— Тебя можно украсть? — наступал он, с мало понятной бесцеремонностью говоря
"ты". — Ненадолго. Посидим с друзьями.
— Как это, украсть? Я не хочу. И почему сразу с друзьями? Я ведь вас совсем не
знаю. Разве можно соглашаться на такие предложения?
— Мы соседи. Я целый год об этом мечтал. Все думал, как бы мне подойти,
познакомиться. Но не могу же я так просто знакомиться на улице. А тут такой
случай. Скажи, тебе удобно сюда звонить?
— Нет. Муж все время дома и сидит рядом с телефоном. Лучше звонить мне на
работу.
— Давай, — он записал телефон. — Я тебя целую.
Маня не ожидала, что он так быстро и решительно закончит разговор. Она не
знала, зачем затевала все это и почему не отвергла его сразу. Слишком
романтическим было начало, слишком любопытным было то, что будет дальше.
На следующий день, придя на работу, Маня услышала то, что ожидала: ей звонил
какой-то мужчина. Через 15 минут раздался телефонный звонок. Он! Сердце
подскочило. Не оставляет! Опять этот низкий хриплый голос, такой
несовпадающий с ее служебным окружением, где немногочисленные мужчины
говорили мягкими вкрадчивыми голосами, скорее походившими на женские. Она не
могла говорить, пока кругом были люди, поэтому извинилась и попросила подождать.
— Какие-то проблемы? Может, надо вмешаться? — его самоуверенность не знала
границ.
— Нет, все в порядке. Все вышли.
— Запиши мои телефоны, — он перечислил все, что можно: служебный, мобильный,
домашний, — я не хочу тебя потерять. Но только не влюбляйся в меня, только не
влюбляйся!
— Да я и не собираюсь, — неприятный холодок пробежался по спине –
романтический сюжет угасал.
— Ну так когда же я тебя украду?
— В пятницу, в восемь вечера, но в гости я не пойду.
— Как ты хочешь, посидим где-нибудь. Я тебя целую.
Приподнятое настроение исчезло, и Маня переключилась на свои дела.
Наступила пятница. Надо было как-то приготовиться, но Маня не стала. Было
жарко, надеть что-нибудь необычное — невозможно, к тому же целый день надо
проработать, а потом еще и занятия. Она надела старое любимое платье, взяла
удобные сандалии на смену, если устанут ноги от жары, и выбрала красноватую
губную помаду.
Было уже не жарко, и даже собирался небольшой дождь, когда они встретились в
условленное время.
— Я думал, тебя уже украли, — сказал он чуть-чуть опоздавшей Мане.
Странное наваждение. Она удивилась неполному соответствию его внешности
своему представлению о нем. Неужели, успела забыть? Конечно, с балкона видела
мельком, голос все время напоминал отца. Сейчас перед ней был невысокий
коренастый мужчина, с явной сединой поредевших курчавых волос и с удивительно
прямыми линиями скул, маленького носа, подбородка, так напоминающего
отцовский.
Они сидели за столиком и разговаривали. Она не чувствовала интереса к себе:
ни мужского, ни человеческого. Может, тоже только любопытство? Или
самообладание? Или приближение мечты после сильного желания напрочь лишает
чувственности и интереса? Всегда хочешь большего, но получаешь то, что
получаешь. Во всяком случае, ситуация казалась двусмысленной, хотя его
рассказ о себе был занятным. В общем-то, он собой доволен, несмотря на то что
уставал, не принадлежал себе, не успевал общаться, с кем хотел, но, хотя все
знал, все видел, все попробовал, то есть был умудрен жизнью, тем не менее
любил наслаждаться, ценил красоту, был благодарным и в женщинах недостатка не
испытывал. А работал он в спецотделе: бандитизм, наркотики, оружие были его
повседневностью.
Он смотрел на нее и не понимал, зачем все это затеял. А может, и знал: есть
деньги — все можно. Увидел красивую женщину, увлекся желанием и
невозможностью его осуществить. Теперь, когда она сидит напротив, надо что-то
делать, но у него пропало желание. Хотел устроить праздник в первую встречу,
но праздника не получалось, хотел бы еще помечтать, но вот она, мечта, рядом.
И имя у нее такое же, как у старой, доброй подруги. Надо же было поставить
машину под ее балконом! Теперь не отступишь. Хорошо, что не один: всегда есть
куда спрятаться. И у нее тоже. Может, сходим еще пару раз куда-нибудь, а там работа,
работа... Как раз на днях он должен выйти на некоего Мишаню – тот переправлял
оружие, но поймать его с поличным не удавалось. Последний раз они долго ждали
его человека у тайника, но никто не явился. Придется выходить на самого. Свой
человек доложил, что у Мишани есть бар в спорткомплексе и что он там бывает
регулярно. Вопрос в том, как не спугнуть и заполучить неопровержимые улики,
иначе не взять. Красивая женщина, но напряжена, и где-то в глубине боль
запрятана. И как ломит спину! Устал очень. Но человек, как машина:
подзаправился — и вперед.
Мишаня получил записку от Марии. Он не забыл эту красивую молодую женщину
– чем-то она притягивала, пространство на ней будто искривлялось. Тогда он
подсел к ней с шампанским и шоколадом, но вместо наглого напора — смутился:
базар не вышел. Она улыбалась, разговаривала, но пить-есть не стала: кто-то
успел обидеть, сказала, что за глоток шампанского потом не рассчитаешься. Он
не знал, зачем, но дал ей свой связной телефон. Звонка не дождался и был
приятно удивлен. При встрече дал ей уже свой номер, но она так и не
позвонила, а тут работенка одна нависла, пропал надолго. Бывало разное, но в
целом жизнь веселая. Появились шальные бабки, а с ними и все тридцать три
удовольствия. Резонно стало завести свое дело, так, для себя и друзей:
банька, бар, развлечения. Сытость и довольство не притупили чувства
опасности: охотника он чуял за версту, — поэтому всегда вовремя уходил, или
не приходил, где ждали. В общем, собой доволен. Старых друзей не забывал.
Зашел навестить, а тут записка. Раз женщина хочет, позвонить надо, а так ни к
чему все это.
Маня только вернулась домой после встречи с Гариком, как вдруг раздался
звонок. Поздновато! Хорошо, что никого нет. Муж, наверное, гуляет.
— Мария? Это Михаил.
Она мучительно вспоминала. Боже! Это же он!
— Ты получил мою записку? Я рада, что ты позвонил. Я думала, увидимся,
поболтаем. Ты в бассейне бываешь? Может, там же и увидимся? Как ты живешь?
— Живу нормально. Хочешь, приходи ко мне в бар, — он объяснил, где это, —
посидим.
— Хорошо, в следующую субботу, ладно?
— Ладненько. Ты одна будешь?
— Н-не знаю.
— До встречи.
—Пока.
Маня подумала, что сразу двое — это многовато. Она улеглась в постель, и
перед глазами поплыли сегодняшние сцены, одна за другой. Вот они за столом, и
подают только что зажаренную рыбу. Она еще не остыла. Он двигает к ней
тарелку и опрокидывает соусницу. Фирменный соус растекается оранжевой жижей
по столу, попадает в щель, и капает ей на ногу. Она наклоняется, чтобы
вытереть ногу салфеткой и видит маленькие растоптанные ботинки с развязанными
шнурками. Неловкость смазывается легким головокружением. Вот они о чем-то
говорят, он пьет водку и закусывает лимоном. Потом заказывает еще лимон,
быстро разрезает его на крупные куски и выдавливает их по очереди прямо в рот.
Она пьет вино, и там тоже лимон, который так и остается висеть ломтиком на
краешке треугольного бокала. Вот бегающий туда-сюда официант, который явно не
нравится ее собеседнику, и вообще она видит, как его раздражение усиливается,
когда музыкант по просьбе, переданной через официанта, отказывается подойти.
Все равно подойдет! — отдается у нее в мозгу, и действительно, тот через
какое-то время подходит, получает заказ и деньги, и потом звучит музыка,
невозможно вспомнить, какая. Вот он внезапно поднимается и собирается уйти,
поехать куда-то еще, здесь ему не нравится. Они едут к дому, по дороге в
разговоре выплывают какие-то женщины, за окнами плывут дома и мелькают
фонари. Для него в машине не существует строгих правил, все можно: повернуть
там, где нельзя, проехать там, где нельзя другим. От этого становится весело
и страшно. Ты меня не обижай! — слышит она от него и видит прямой профиль.
Теперь ей становится страшно. Она хочет выйти из машины, но не может нарушить
правила. И снова его грустное лицо: Ты меня не обижай! Наконец машина встала.
Маня вынесла ногу из нее и... проснулась. Теперь она не могла бы сказать, где
сон был, а где явь.
Уже светало. Она спала недолго, и ночи были коротки. Вставать еще рано, и она
осталась лежать. Теперь вдруг вспомнился Мишаня. При такой величине и
грузности у него была легкая походка. Как-то Маня увидела его на Арбате: он
не шел, а летел по тротуару, а рядом с ним шла миниатюрная девушка,
казавшаяся крохотной на его фоне. Так они и летели парочкой по Новому Арбату,
а она смотрела им вслед, оставаясь на месте.
На часах было время собираться в бассейн. Маня утром всегда пила чай. Сумка
была уже готова, вечные муки — что надеть? — преодолены, и вот она уже
выскакивает на улицу. До проезжей части оставалось метров тридцать, когда она
увидела машину Гарика. Он невозмутимо сидел за рулем, направляя своего
"мустанга" как раз в ту сторону, куда стремилась Маня. Она
рванулась к дороге, чуть было рукой не махнула, но сразу вспомнила, что он
что-то говорил, что может не подойти, не узнать при случайной встрече на
улице. Она остановилась и повернула на свою обычную дорогу. Может, он тоже в
бассейн поехал?
Напрасно Маня тешила себя надеждой — Гарик ничего не помнил. Он шел по следу.
Сейчас ехал на встречу со своим агентом, который выведет его на Мишаню. Гарик
уже чуял добычу, а чутье его не подводило. Человек ждал на бензоколонке, у
заправочного аппарата. Пока бензин переливался, вся информация была получена:
Миша имеет свой бар, где бывает каждый день, кроме понедельника; где тайник ?
неизвестно, может, и там; сейчас Миша на месте. Гарик решил не откладывать
встречу, тем более что находился рядом со спорткомплексом, и отправился туда
немедленно. Группа захвата была предупреждена и уже выехала, чтобы быть
рядом. Но сначала он должен посмотреть сам, раз сам заполучил сведения о
Мишане. Он уже подъезжал к зданию спорткомплекса и решил поставить машину
так, чтобы легко было выехать. Гарик еще не знал, что будет делать, — он
хотел видеть этого человека.
Маня не видела больше машины Гарика. И у бассейна его не было. И в бассейне
не было. Она нырнула и перестала думать о нем. Под ней проплывало дно
бассейна. Она парила, пока хватало духа, потом захватывала побольше воздуха и
вновь погружалась, воспаряя. Сегодня ей не хотелось расставаться с этим удивительным
ощущением свободы и пространства. Она нехотя вышла из воды, приняла душ,
привела себя в порядок ? все как обычно ? и направилась было в буфет, но тут
вспомнила про Мишаню с его баром и решила, что хорошо бы увидеться сейчас.
Она подошла к спорткомплексу, прошла мимо вахтера через вертушку и стала
медленно подниматься по лестнице. Наверху слышна была тихая приятная музыка.
У Марии кружилась голова, и ей казалось, что она на страшной высоте, почти
как в парении под водой. Она распахнула дверь и остановилась, пораженная
золотистым сиянием небольшого уютного помещения. Оно исходило от специально
обработанной стены зала, которая прямо-таки светилась под лучами солнца,
проникающими через небольшие окна в верхней части противоположной стены.
Вдоль нее стояли столики, а стойка бара была расположена у теневой стены.
Оттуда тоже шло тихое сияние из-за подсветки и отражающего блеска золотистых
этикеток многочисленных бутылок. Завороженная, Маня в первое мгновение
застыла на пороге, но потом шагнула и очутилась в этом царстве света. В
дальнем и ближнем углу зала столики были заняты: сидели рослые молодые люди,
неторопливо потягивали сок. Маня выбрала столик посередине, он весь находился
в золотистом сиянии. Она села, не подойдя предварительно к стойке бара и не
заказав себе что-либо. Достаточно было просто погрузиться в это тихое
свечение. Она бы могла просидеть так целую вечность, но тут раздался тихий
голос:
— Ну что, чай и мороженое, или хочешь райского вина?
Она подняла голову и даже прищурилась, потому что в золотистых лучах стояла
громадная фигура. Это был Мишаня.
— Привет. Рада тебя видеть. Ты как небожитель. Кто вам так все оформил?
Просто рай небесный.
— Да есть тут один художник. Но идея моя. Нравится? Можно отдохнуть,
расслабиться. Выпьешь?
— Чуть позже. Я тебе звонила раньше, но мне сказали, что абонент отключен.
Тебя долго не было видно, а сейчас, вижу, ты устроен. Как сам?
— Нормально. За деньги можно все.
Маня не нашла, что сказать, возникла неловкость. Она не знала, как выйти из
этой ситуации, но тут открылась дверь и на пороге показался Гарик. От
неожиданности Маня стала подниматься, собираясь сделать шаг ему навстречу. У
Гарика широко открылись глаза, вот уж кого не думал он здесь встретить, так
это женщину своей мечты. Что она тут делает? Да еще в компании с этим
гигантом! Гарик не мог разглядеть его лица из-за слепящего солнечного света,
но нутром почувствовал: он! Мишаня отступил назад, чтобы лучше разглядеть
стоящего на пороге невысокого коренастого человека. От него исходила
опасность. Мишаня заволновался: это по его душу. Надо уходить, но почему он
пришел сюда? Да они же знают друг друга! Вот стерва! Навела на меня погибель.
Так бы и уничтожил своими руками! Он непроизвольно потянулся за пистолетом,
но вовремя опомнился: ведь он же дает в руки мента улики! Гарик уловил это
его движение руки к пистолету, но не сразу понял, кого Мишаня собрался
подстрелить. И тут в голове его созрел план, как подставить этого гиганта,
чтобы точно задержать. Он быстро сунул руку в карман и нажал на мобильном телефоне
сигнал вызова группы захвата. Вынимая руку, он видел как Миша делает то же
самое и направляет на него пистолет. Тогда Гарик делает рывок и укрывается за
Марией. Раздается выстрел. Последнее, что видит Мария — это склоняющиеся к
ней лица ее знакомых, и чувствует, как ее подхватывают с обеих сторон под
руки. А на пороге светящейся комнаты и в двери за стойкой бара уже возникли
огромные фигуры воинов в масках, и Мишаня понял, что попался. И тогда он в
упор выстрелил в этого человека и тут же почувствовал сильный толчок под
лопатку. Глаза он так и не успел закрыть. А Гарик успел подумать, что это
конец.
Небыль
Блаженны алчущие и жаждущие правды,
ибо они насытятся.
(От Матф. V,6)
— Ритусь, сладкий мой! Ты у меня лучше всех!
Девочка смотрела на себя в зеркало, и ей все очень нравилось: и новое платье,
и новые колготки, а самое главное — новые туфельки; гладкие, скользящие, они
так звонко цокали! Девочка вертелась перед зеркалом сильнее, сильнее, и когда
уже весь мир поплыл перед глазами, сильные руки подхватили ее и вынесли к
свету, а совершенно недосягаемые плафоны люстры оказались прямо перед носом.
Ух! Дух захватило! И тут же стало страшно от неустойчивости опоры: рука
предательски дрожала. Но девочка нашла в себе силы не вцепиться в руку, не
завизжать, а только вдавилась в ладонь, пытаясь удержать равновесие. Отец
подхватил ее второй рукой и опустил себе на грудь, а потом на пол. Как это,
оказывается, прекрасно — стоять на полу, хотя бы и не чувствуя под собой ног
от только что пережитого восторга.
Зазвонил телефон. Марго взяла трубку и услышала мягкий низкий голос:
— Привет. Я буду у тебя через пятнадцать минут, уже подъезжаю.
Лицо сразу вспыхнуло, и руки задрожали. Марго ликовала. Она быстро привела
себя в порядок, натянула любимое платье и посмотрела в зеркало: вполне еще
можно нравиться, хотя уже не скажешь, что восемнадцать. Она приблизила к
зеркалу лицо... Восемнадцать, восемнадцать — последнее время Марго постоянно
сравнивала себя с юными особами и не в свою пользу: вокруг глаз едва видные,
но морщинки, кожа уже не такая упругая, стали заметны круги под глазами, хотя
они такие серо-синие и глубокие... И фигура... Как в восемнадцать!
Она вздрогнула от звонка в дверь. Сердце колотилось. Замок не сразу
послушался, еще одно усилие — и вот ОН. От неожиданности она замерла: снова
не совсем такой, каким она представляла его себе. Каждый раз видит не то, что
ожидает. Его голос, фигура, манера стоять, отставив одну ногу в сторону,
очертания лица и что-то еще, едва уловимое, так напоминает отца, что
непонятно, кого она ожидает увидеть. Отца нет уже лет десять. И вдруг такое
наваждение.
— Ну, здравствуй, — Марго обратила внимание на усталую, и поэтому не такую
напряженную, позу. Она представила, с какой неохотой он покидал машину, как
всякий мужчина, дорвавшийся до руля после долгих посиделок или занятий, когда
хочется только ехать и больше ничего. В руках он держал традиционный пакет с
фруктами и торт. Это тоже объединяло его с отцом, который никогда не приходил
с пустыми руками.
— Привет, — он чуть тянул гласные. — В глазок уже не смотришь.
— Я и так знаю, что это ты. Проходи.
Он легко прошагал внутрь и, уронив сумки на пол, стал снимать ботинки.
Марго нравилось все, что связывало с ним: встречи, ожидания, переживания,
звонки по телефону, его голос и даже та напускная пренебрежительность, с
которой он к ней относился. Она была им захвачена и не знала, как быть,
потому что он сразу озадачил ее странным заклинанием: не влюбляйся! Говорил,
что и сам никого не любит, потому что человек — это машина, и как всякая машина
— принадлежит не себе, а кому-то, или чему-то. Но без увлечения мужчина был
ей не интересен. Потом она поняла, что он имел в виду: влюбленностью
считалось покушение на его свободу, попытку захватить. Это ее развеселило,
так как замуж она не собиралась, но понять его можно было. При постоянной
своей востребованности, он не хотел обязательств, привязанности, боялся, что
еще и ребенка от него захочет, как многие другие его женщины, а это
совершенно исключено. И напрасно боялся. Во-первых, она не захочет, ей не
нравится эта жизнь, а во-вторых, он не думает, сколько ей лет. Потом Марго
поняла, что он вообще о ней не думает, но все внимательно слушает. Как-то раз
она между прочим заметила, что он не говорит ей правды.
—Какой правды ты ждешь? — он так неожиданно отозвался, что она вздрогнула,
будто подслушали ее мысли. — У меня было столько женщин, что тебе и не
снилось.
Они опять замолчали. Эта "правда" ее не интересовала. Он сидел и
слушал музыку, думая непонятно о чем. Наверное, прокручивал накопленную за
день информацию. Или только делал вид. В глазах и складке кожи в междубровье
— застойная усталость. Именно это сбивало ее с толку, вызывало сочувствие,
заставляло прикусить язык.
Сначала Марго злилась, сожалела, собиралась все прекратить, но как только
слышала этот тихий низкий голос – я по тебе соскучился… – видела это каждый
раз заново узнаваемое лицо, усталый взгляд, все забывала, успокаивалась и
погружалась в пребывание рядом с мужчиной. Ненадолго, чтобы опять вернуться к
себе. Собственно, и во время свиданий Марго не уходила от себя: она
чувствовала, что хотела, она делала, что хотела. Наверное, и он так же.
Каждый думал о себе. Их встречи походили на неторопливое действо с
расписанными кем-то ролями. И это ей тоже нравилось. Когда она его не видела
подолгу, переставала понимать, зачем все это надо, а когда он был рядом, ей
становилось хорошо, и она переставала думать. Ей нравилось, что он хвалил ее
чай и не просил еды, нравилось, что приносил фрукты, которые она еще долго
потом ела, испытывая невыразимое наслаждение оттого, что это куплено для нее.
Ей нравилось, что, войдя в дом, он всегда снимал обувь, а на стуле сидел,
поджав ноги. Ей нравилось, что он почти не отвечал на вопросы и вдруг тихо
мог сказать: иди сюда! И, обняв, так утыкался в нее, что она тоже все
забывала. Ей нравились все ощущения и их оттенки, тысяча ощущений, каждое из
которых по-своему трогало душу. И она была благодарна ему, что он все оживил
и заставил звучать, и представить теперь свою жизнь без этой душевной
симфонии было невозможно.
— Есть будешь? Твоя любимая еда.
— Нет, спасибо. Только чай.
Марго не заставляла, но и не убирала, зная, что он съест, только позже. Она
села с другого края стола, напротив, и замолчала. Они так могли — молчать,
как будто договорившись не разрушать случайными словами тончайшей
иллюзорности происходящего. Она смотрела на него, пытаясь разглядеть и
запомнить черты лица, чтобы отличить от отца.
— Я сейчас засмущаюсь, если ты будешь еще смотреть.
— Ты так похож на моего отца! Даже не представляешь: подбородок, мимика,
голос, движения — все напоминает его, даже жутко. Когда так явно из прошлого
возникает человек, это напоминает о смерти.
— Не знаю, я не собираюсь умирать, поживу еще.
— А вот мне надоело.
— Хочешь, чтобы я тебя пожалел?
— Да нет...
Марго поняла, что почти случайная фраза чуть было не разбила тончайшее стекло
иллюзорности. Да, ей хотелось, чтобы ее пожалели, но сентиментальность
разрушает действо, а его надо продолжать. Являясь одновременно исполнителями
и зрителями, они были порабощены своими собственными представлениями.
— Так, ладно, я пойду смотреть телевизор, — сказал он, встал и ушел.
Он легко вставал со стула и так незаметно передвигался, что Марго всегда
помнила его только в каком-то определенном месте. Вот и сейчас, войдя в
комнату, она увидела его удобно устроившимся на диване с пультом в руках и
переключающим телеканалы. Чтобы не мешать, она села в кресло и стала ждать,
что же дальше: так приятно было не торопиться. Марго смотрела и думала, что
это самые лучшие минуты, оттягивающие начало основного действа, которое вот
уже сейчас начнет развиваться так стремительно, и конец будет таким
неизбежным, как и навалившаяся пустота, и только сейчас, еще одно мгновение,
можно наслаждаться предвкушением.
Он остановился на новостях. Потом повернулся и посмотрел на нее. Надо что-то
делать.
— Иди ко мне!
— Спи, ты же устал.
— Нет, я хочу, чтобы ты шла ко мне...
И она провалилась в небытие...
И видит Рита сон. Она во дворе, который что-то напоминает, где-то она его уже
видела. Всему причиной – большие новые дома, которые со всех сторон обступили
старые небольшие. Вот в них-то Рита и узнаёт двор, в котором она провела свое
детство. Все это видно с высоты птичьего полета, потом ближе, ближе — и вот
она у подъезда своего дома, откуда они с мамой когда-то ушли навсегда, но где
оставался жить отец. Окно светится, и она, замирая от ужаса, что «нельзя»,
заглядывает туда. Слышны пьяные голоса, но людей не видно. У стены, под
картиной «Три богатыря», на высокой кровати, которой она не помнит, лежит
отец. Он немного не в себе, и непонятно, видит или не видит ее. И тогда она
решает войти. Знакомые, но уже полуразбитые двери, замок все тот же, все тот
же коврик у дверей, налево — вешалка, столик и зеркало, которое ставила еще
мама. Так оно и стоит: пустое, будто спит. Она открывает дверь в комнату и
видит: кровать заправлена, никого — только люк в полу открыт. Она никогда не
знала, что там. И вот она оказывается внизу. Довольно высоко, даже светло.
Какие-то пыльные полки, как в магазине самообслуживания. Какие-то люди
мелькают, женщина-уборщица... И тут на нижней полке она увидела крысу, будто
мокрую. Крыса смотрит на нее и вдруг срывается с места, бросается на нее,
прямо на грудь, и вцепляется в то место, где сердце. От ужаса и омерзения
Рита кричит, но горло сдавлено, и звук остается глубоко внутри. Она
стремительно бежит, бежит, полки расступаются, и крыса остается где-то там, а
перед ней появляется большая пустая площадка или комната, где есть голые
бетонные стены, но нет потолка. В глубине, у дальней стены стоит коренастый
человек в кожаной куртке, галифе, в сапогах, с курчавыми, даже лохматыми,
волосами и заросшим лицом. Она понимает, что это отец, но это не отец. На
демона похож: черные кудри, причудливой формы уши, нависшие над глазами
волосы. Она оказывается в его власти и, подчиняясь его воле, подходит ближе,
ближе. И вот он наваливается на нее и что-то бормочет, и невидимое лицо его
надвигается. Ей некуда деться, она задыхается и, очнувшись, просыпается.
Он лежал к ней спиной, и непонятно было, спит или нет. Она слегка коснулась
его пальцами.
—Ты не спишь?
— Нет. Ты не обидишься?
— На что?
—Только не обижайся... Я не люблю сюрпризов.
— Не поняла. Ты о чем?
Марго действительно сначала не поняла — опять какие-то условия игры? Она
вдруг вспомнила, как он говорил: если б ты знала, сколько женщин хотели от
меня детей!
—Да ты понимаешь или нет, что я в этом смысле для тебя совершенно не опасна,
— она быстро встала. — Пойдем чай пить.
Они пили чай, он что-то говорил о своей работе, а она вдруг подумала, что при
таком количестве женщин всякое бывало: интересно, что он делал, если женщина
вдруг беременела? Потомство на стороне для него было исключено.
***
Уходил он так же стремительно, как и появлялся. Марго помешивала ложечкой
остывающий чай, и все уже казалось ей наваждением, тающим, как дым от
истлевающего благовония. Только пакет с фруктами напоминал о нем. Какими они
были сладкими! Последнее время Марго жила с ощущением восторга. Ее душа
ликовала! Она радовалась, злилась, тосковала, огорчалась, умилялась, ждала и мучилась,
а потом наслаждалась и затихала — и все это благодаря представлению о нем.
Когда он намеренно забывал о ней или лишал своего благорасположения — она
замирала, время останавливалось, и все вокруг начинали интересоваться ее
здоровьем. А когда он вновь распространял на нее свою харизму — все оживало,
она будто неслась над землей, глаза сияли, лихорадочный румянец не сходил с
лица, и тогда все вокруг начинали восхищаться ею.
В своем восторженном состоянии она очень зависела от его присутствия. Марго
поняла это не сразу, а только тогда, когда он стал тяготиться ее краткими
ежедневными звонками. Сам он звонил очень редко, и получалось, что звонила
она, а ему звонить было незачем. Пытаясь выяснить что-нибудь о его планах на
вечер, а то и приглашая его куда-нибудь, она выслушивала вежливую отговорку
со ссылкой на неизменную занятость, и понятно было, что звонить больше
незачем.
Они никак не называли друг друга, сразу и так узнавали, кто это. И говорили
всегда очень коротко и ни о чем, но без этих звонков было грустно
существовать. Точно договориться на конец недели они не могли, потому что он
никогда не был уверен в своих намерениях, объясняя это все той же занятостью
и несвободой: "Я — это не я, а машина, выполняющая волю других", —
было самым серьезным оправданием своего нежелания с ней увидеться.
Он стал тяготиться ею. Она окончательно поняла это, когда, в очередной раз
ожидая его приезда, подошла к окну и увидела его машину. Незадолго до того он
позвонил и сказал, что задерживается и что если ей некогда, то пусть не ждет.
Марго поняла, что ему не хочется ехать к ней, но она никуда не торопилась, а
ему неудобно было отказать. И вот он здесь. Она видела, как не торопясь он
шел, в руках — большой пакет. Вдруг он остановился, шагнул к скамейке и сел
на нее. Курил, раздумывая, идти или нет, может, звонил. Потом нехотя встал и
обреченно двинулся к подъезду. «Бедный, как ему тяжело», — не без злорадства
подумала Марго. Но, увидев его, она опять забыла все, о чем хотела
поговорить. И только чувство неловкости из-за того, что он устал, или ему
скучно, или что-то еще, донимало ее весь вечер. Уходя, он вскользь заметил,
что обиделся. Она не знала, что сказать.
А сказать хотелось. О том, что он ей навязывает чужую роль, для которой
сгодится любая, что у нее нет времени ждать, что она чувствует себя обязанной
за эти его гостинцы, хоть ей и приятно в глубине души... И много-много всего
такого, о чем она успевала подумать до следующей встречи с ним и забыть, так
долго не наступало это время. Будто специально он испытывал ее терпение, что
очень раздражало.
Он опять долго не звонил. Она выдерживала, сколько могла, а потом набирала
один из номеров. Он все время ссылался на занятость и работу, и она понимала,
что он говорит неправду.
— Почему, когда бы я не позвонила, тебе всегда неудобно со мной говорить?
— Потому что ты свободна, а я нет.
— И что, мне больше не звонить и только ждать твоего звонка?
— Н... Да!
— Хорошо.
Марго обиделась и решила больше не звонить. Время остановилось. Она пыталась
себя загрузить работой, развлечениями, но все разваливалось. Исчезла радость,
которая сопровождала ее последнее время.
Дни шли и шли. Он не звонил. Марго вдруг заметила, что ей все время хочется
есть. Особенно хотелось рыбы. И запахи стали преследовать ее. Некоторые
ароматы стали совершенно невыносимы. Пока она удивлялась и разбиралась, что и
почему, стало ясно – беременна. Ничего себе! — подумала Марго и решила
оставить ребенка. Она еще не знала, что делать и как жить дальше, и думать об
этом не хотела.
***
Он знал все, что будет, наперед. Столько раз он выслушивал подобные
упреки, что перестал придавать им значение и все пускал на самотек: пусть
будет, как будет, а там посмотрим. Он почти не сомневался, что она быстро
раскается и уже через неделю попытается его найти и загладить свою вину. Ему
это даже нравилось. Нет ничего прекраснее провинившейся женщины, и так
приятно чувствовать себя господином. Правда, эта оказалась покладистой и
разумной, а иногда хочется и строптивости. Ну ладно, женщин вокруг много, —
только свистни, — и друзья зовут в кабаки развлечься с девочками, а там
праздники и дни рожденья... Работать некогда, не то что с ней чай пить. И с
собой не возьмешь, заметна слишком. Пусть посидит, помучается — сговорчивей
будет и малому обрадуется. Он вырулил на шоссе и, сосредоточившись на
движении, решил, что теперь нескоро захочет с ней встретиться. Сама виновата.
Не надо было так быстро сдаваться. На все свои правила. Он способен на любые
безумства, пока крепость неприступна, но как только крепость пала — можно не
беспокоиться: что хочу, то и ворочу.
Он подъехал к объекту, поставил машину так, чтобы не бросаться в глаза, но
при этом все видеть, и закурил. Да-а, очень много людей и событий, нельзя обо
всем переживать, сил не хватит. Надо дать естественный ход развития всему.
Если не торопиться, многое успеешь. Вот и эта женщина. Еще недавно можно было
только мечтать о ней — и вот уже она с ним. Главное — доставить удовольствие
себе. Не мог он пропустить красивых женщин — коллекцию украшают. Теперь и это
дорогое украшение там же. И сколько еще таких будет? А казалось, что
невозможно. Целый год, с того самого момента, как увидел ее, любовался
издалека, мечтал познакомиться, мучился, не знал, как подойти. Иногда,
правда, возникала мысль, зачем, ведь теперь все есть: и деньги, и друзья, и
женщины на все дни недели, и дом, и работа, и машина, — но как видел ее,
думал, почему такая женщина — и не моя. Вот теперь его, а что делать с ней —
неизвестно. Хоть другу отдать. Есть же еще Юлечка. Вообще-то жаль. Вспомнил,
как сидел как-то раз на скамейке около подъезда, а она идет. Соседи кругом,
не подойдешь. Только украдкой мог полюбоваться. Солнце светило в спину, но
прямо на нее, освещая золотистые волосы. Она шла как-то прямо, спокойно и
очень печально, за всем этим чувствовалось завораживающее одиночество. Он был
такой усталый, что печаль его не особенно тронула, но одиночество привлекло.
Что он мог? Только проводить ее глазами до угла дома. Через полчаса не
выдержал, пошел в ту же сторону. И увидел ее на балконе. Вот дурак! Ведь
знал, что она живет в этом доме. Ничего не стоило узнать ее телефон и
позвонить. Позвонил — и все завертелось, да не так как хотелось. Не поддайся
она хитрым уговорам в первую встречу, наверное, все было бы иначе, но теперь
не переиграешь. Если бы, да кабы... Скоро уже смена, сейчас ребята подъедут —
и свободен. Надо бы позвонить ей, что-то давно не слышно. Или лучше Юле?
Сладкая девочка. Так и брызжет, кровь с молоком. И машина, и квартира, и... и
первый экзамен выдержала, угодила.
Из-за угла дома показалась смена. Он быстро выехал на дорогу и, настроившись
на спокойную езду, стал набирать номер Юлиного телефона. Поворковал,
договорился о встрече и поехал по направлению к ее дому. Путь лежал через
место, где жила Марго, и он решил позвонить. Может, заскочить минут на 15-20?
Но трубка молчала, к телефону никто не подходил.
***
Марго сосредоточилась на борьбе с запахами. Прежде она и не догадывалась, до
какой степени все ими пропитано. Приходилось прибегать ко всякого рода
хитростям, чтобы избегать приступов дурноты и тошноты. Сначала очень помогали
духи со свежим запахом, особенно с цитрусовыми оттенками. Потом стало тянуть
на глубинные сладковатые запахи, прежде вызывающие неблаговидные ассоциации,
а теперь спасительно манящие. Но скоро и они стали вызывать такую тошноту,
что пришлось познать ужас стыда за публичное осквернение общественной урны.
Спасение было в духах с привкусом горечи. И название у них было подходящее:
«Невинность».
Пока явные изменения были связаны только с проблемой запахов, Марго
продолжала жить, как прежде: ходила на работу, болтала с подругами по
телефону, присматривала себе наряды и все чаще застревала у прилавков с
товарами для самых маленьких. Мысленно она выстроила целый мир для себя и
будущего ребенка, и кроме них двоих там не было никого. Да, никого. Марго не
забывала обиды и унижения. А уж как обидно было, когда она пыталась
дозвониться ему, чтобы просто слышать его голос, такой родной и памятный с
детства, но в ответ получала только хлопок брошенной трубки. Одно время ее
одолевала ревность, и Марго представляла его себе с другой женщиной,
почему-то непременно маленькой светловолосой и пухленькой хохотушкой. Вот бы
посмотреть, как она выглядит? Марго понимала, что ее не должна интересовать
чужая жизнь, но любопытство перевешивало здравый смысл и подогревалось
иллюзией, что она что-то сможет узнать и понять о жизни отца, наблюдая за
этим человеком, — не зря же они так похожи. Как-то раз, возвращаясь домой
после суматошного рабочего дня, она, застряв на автобусной остановке, вдруг
заметила у небольшого ресторанчика его машину. Захотелось увидеть, с кем он
там может быть. Сидит, наверное, обкуривает свою фифочку и похваляется. Вот
зайду и посмотрю. К тому же холодно, она устала, а домой не хотелось. А там,
наверное, можно выпить что-нибудь горячее. С замирающим сердцем Марго
переступила порог ресторана и точно бы повернулась и ушла, если бы к ней тут
же не подскочил метрдотель и не предложил своих услуг.
— Вы кого-то ищете?
— Да. У вас есть места наверху? Я бы хотела заказать глинтвейн. Можно?
— Конечно, проходите, пожалуйста. Скажете, все, что вам нужно, и это
принесут.
Марго поднялась наверх и сразу же увидела его. Он сидел в компании мужчин, и
все они пили пиво. Она видела, что он повернулся и заметил ее, но тут же
отвернулся, словно они не были знакомы. Ей стало не по себе. Но уходить было
уже поздно: девушки-официантки что-то щебетали, провожая ее к столу, она
что-то говорила про глинтвейн и была рада поскорее усесться за столик в
темном углу, так как одуряющая тошнота комком подступила к горлу. Ей было
нехорошо, и она, ожидая заказ, закрыла глаза, а когда через какое-то время их
открыла, за тем столиком уже никого не было. Они ушли. Марго поняла, что
больше она его не увидит. Никогда. В груди образовалась пустота. Но тут
принесли вино. Она пила медленно, постепенно согреваясь, потом попросила чаю,
еще немного посидела, успокоилась и, расплатившись, отправилась домой. Вот и
ладно, вот и хорошо! У него своя жизнь, куда он не хочет ее впускать. Она
вдруг поняла, что это конец. Он больше не вернется.
Марго с трудом научилась не думать все время о нем, не ждать звонков. Она
боролась с запахами, покупала себе что-нибудь вкусное из еды и даже не
удержалась и приобрела новые удобные туфли. Денег было совсем немного и это
вызывало беспокойство. Но всегда в крайнем случае можно было обратиться к
маме, и Марго не очень переживала. Да и подработать можно было немного. Плюс
старые запасы от сдачи квартиры. Какое-то время можно было не беспокоиться, а
там видно будет.
Прошло довольно много времени с той неприятной встречи в ресторане. Марго
чувствовала свой наполненный живот, откуда шло тепло по всему телу.
Внимательный человек заметил бы, что походка ее изменилась, стала плавнее и
осторожнее, глаза подернулись легкой дымкой и светились тем особым
неповторимым светом, который ни с чем не спутаешь. Тошнота отступила, работа
не досаждала, начиналось лето, и Марго вдруг почувствовала себя счастливой.
Она приходила домой, включала телевизор, устраивалась удобно на диване с
книжкой и, почитав и посмотрев, мирно засыпала. Она только-только задремала,
когда однажды вечером раздался телефонный звонок.
— Аллё!
У нее все оборвалось внутри: это был он.
—Ты куда пропала?
Такой знакомый низкий голос. Она вдруг до самых корней волос ощутила ужас.
Едва шевеля губами, прошептала что-то, что куда она может пропасть, это он
забыл ее.
— Ты будешь дома? Я сейчас приеду.
— Знаешь, сегодня не получится, я сильно заболела и не могу с тобой
встретиться, — потеря голоса от страха была весьма кстати. — К тому же сейчас
приедет тетя, привезет лекарства, так что извини, в другой раз. Я позвоню.
Марго бросила трубку и тихо сползла по стене. Боже мой, что делать? Хотелось
тут же куда-то бежать. В голову лезла всякая чушь про Синюю Бороду и погони.
Она подумала, что так и впрямь заболеет. Надо быстро лечь спать, а утром все
образуется.
Привычные приготовления ко сну ее немного успокоили. В ночной рубашке она
почувствовала себя уютно и свободно. Сразу охватила сонная истома. Улегшись в
мягкую постель, она тут же провалилась в сон. Прошло довольно много времени,
что-то происходило, но Рита не запоминала, и вот она видит, что лежит на
кровати, смотрит на дверь, которая приоткрылась, и там, в этой пугающей тьме,
кто-то должен появиться. И она знает, кто. Там стоит он, с черными, смоляными
кудрями, ниспадающими на лоб, но не закрывающими такое знакомое лицо,
подбородок, скулы... Рита не хочет, чтобы он вошел, боится и поэтому начинает
бормотать слова молитвы и пытается наложить крестное знамение на дверь, чтобы
он не мог войти, но рука будто налилась тяжестью, никак не поднимается.
Кое-как Рите удалось перекрестить дверь, и из-за таких усилий она проснулась.
Кошмар исчез, но она так живо все помнила, что знакомое лицо стояло перед
глазами, накладываясь на виденное прежде. К чему это? Спать больше не хотелось,
за окном светало, и она постаралась поудобнее устроиться, чтобы еще полежать.
Казалось, что больше не уснуть, но серое утро и постельное тепло сделали свое
дело: она уснула — и проснулась, когда стали слышны крики детей и шум
заводимых машин.
Марго вскочила с единственной мыслью — спрятаться. Но куда? На одном месте
ничего не выйдет. Надо двигаться, все время менять места, тогда будет шанс не
встретиться вовсе. В большом городе есть где раствориться, а телефон можно и
поменять. Да и адрес тоже. В общем, нельзя, чтобы он ее видел, — он и не
увидит. И она решила не мешкая уехать к приятельнице на дачу. Оттуда можно и
на работу поездить до отпуска, а там очередной отпуск, потом декретный, потом
к маме. Он забудет про нее. Она быстро собрала вещи, в основном любимые и то,
что необходимо каждый день, взяла книжку, деньги, паспорт, ключи. Можно было
уходить.
***
В его душу закралось сомнение. Как это, не приезжай? То всюду ищет, звонит,
ходит по пятам, а тут — в следующий раз. Он остановился перед супермаркетом.
Это была его слабость — дорогие магазины. Там он чувствовал себя человеком.
Можно было бы купить и на рынке, и на улице, и в маленьком магазинчике, но
главное — вид: дорогой пакет, дорогие фрукты, дорогое вино. Умная женщина это
оценит, а глупых он не выбирал. Пусть почувствует себя немного обязанной,
быстрее дело пойдет. И лучше. Он ходил вдоль витрин и выбирал продукты,
предвкушая, как ее обяжет. Тогда ей уж точно неудобно будет отказать в его
маленьких прихотях, а чтобы неудобно было каждый раз, старался не повторяться
в ассортименте. Он вообще любил все рассчитать и подготовить заранее,
понуждая кого-либо к определенным действиям, и, как правило, добивался
желаемого. Получал, что хотел.
Он подъезжал к ее дому. Пора было позвонить, чтобы была готова встретить. Он
заворачивал во двор, слушая гудки в трубке, но к телефону никто не подходил.
Неужели и в самом деле что-то произошло? Почему не захотела увидеться?
Чтобы продукты не пропадали, он решил навестить Юлю. Джакузи, светомузыка,
коньяк, мягкое кресло — можно расслабиться и подумать... Вечер подходил к
концу, а он так и не смог отключиться от одной мысли: где она?
На следующий день, несмотря на атаки знакомых, начальства, подопечных,
женщин, мужчин, детей и прочее, и прочее, он не смог отвлечься. Все эти люди
и события шли перед ним, как на экране, а в голове прокручивалась мысль, как
ее найти. И к концу дня он знал, как. Не зря же был профессионалом. Когда они
только познакомились, она что-то говорила о даче своей подруги, где можно
показываться вместе. Это недалеко от Москвы, так что она может ездить на
работу оттуда. Надо проследить.
***
Марго ехала в электричке, жевала горячую ватрушку с хрустящей корочкой и
обжигающей начинкой, смотрела в окно на пролетающие мимо картинки a` la
natur. Уже неделю она жила на даче у подруги и ездила оттуда на работу. Она
открывала для себя удивительные ощущения, растущие вместе с новой жизнью
внутри нее. Она вслушивалась в себя, а слышала весь мир, который раскрывался
все больше и больше, как будто был сосредоточен в ней. Работа становилась
неинтересной, и она собиралась уйти, как только сдаст квартиру. Этих денег ей
хватит на жизнь. Она боялась только одного: что он может прийти и разрушить
этот ее мир. А пока все было нормально, на работе можно было появляться чуть
позже и не каждый день, но надо быть предельно осторожной: как знать, может,
он захочет ее найти, хотя это и маловероятно. Все равно, долго здесь
оставаться нельзя. Фигура меняется, уже невозможно скрывать. Если он увидит
ее — сразу поймет, в чем дело, и неизвестно еще, что будет, когда он узнает.
Ведь говорил же, что ребенок на стороне — это исключено, а тут все так вышло.
Ей стало нехорошо. А вдруг и в самом деле это конец? Надо уезжать к маме.
Марго очнулась от размышлений, потому что почувствовала некоторое неудобство:
она поняла, что кто-то находится здесь из-за нее. Это стороннее внимание
исходило не издалека. Она поняла, что ей некуда будет деться. В вагоне не так
много людей, выйти незамеченной не удастся, а на пути от станции до дома тоже
нигде не спрячешься. Что же делать? От следующей станции в сторону дачи идет
автобус и маршрутное такси. Если бы удалось заскочить туда раньше, чем ее
настигнут! Да и не захочет он разоблачения. Электричка уже остановилась, все
вышли и зашли. Оставались секунды до закрытия дверей. И тут Марго рванулась с
места, пробежала по свободному проходу в тамбур и в последнее мгновение
успела выскочить на платформу. Вот дура, что делает! — услышала она вслед и
не чувствуя под собой ног побежала к автобусной остановке. Там стояла пустая
маршрутка. Заскакивая в нее, слышала лишь, как завизжали тормоза электрички —
неужели стоп-кран?! Марго пообещала водителю плату за десятерых, и они
рванули с места, когда какой-то мужчина уже бежал к остановке.
Все нутро ее взволновалось. Она еще боялась, что их догонят, и поэтому
просила ехать быстрее. Марго старалась усесться поудобнее, чтобы меньше
трясло. Она оберегала себя теперь, когда внутри зрела новая жизнь. А в
детстве ей, наоборот, хотелось, чтобы, если что случится, больно было ей, а
не кому-то другому. Она вдруг вспомнила, как, раздирая в кровь коленки,
жалела колготки, а не свое тело, или как она всегда готова была принять удар
на себя, или... Тут водитель резко затормозил, и она ударилась лбом о стекло:
на дорогу внезапно выскочила кошка. Не везет! Они уже подъезжали. Марго
понимала, что оставаться ей здесь, на даче, одной никак нельзя; они без труда
вычислят ее. Надо немедленно исчезать. Она уговорила водителя чуть
задержаться около дома, пока она соберет вещи, благо это быстро, и тогда она
доедет с ним до конечной остановки, а это следующая, ближе к Москве,
железнодорожная станция. Вот и пассажиры стали появляться. Пока он их
собирает, чтобы не порожняком ехать, она будет готова. Водитель был
добродушный и от скуки на все соглашающийся. Когда через пятнадцать минут
Марго с сумкой забиралась в салон, где уже сидели люди, все выглядело
обыкновенно. Они быстро доехали до станции, она тихо села в электричку,
внимательно оглядевшись и не заметив ничего подозрительного, и уже через час
была дома, в своей квартире. Выпила сок, привела себя в порядок, взяла все
необходимые бумаги и вещи и, не задерживаясь ни на минуту, отправилась на
вокзал, откуда через полтора часа уходил поезд. Она ехала к маме. У них был
свой дом в деревне, и вот уже три года, как мама там жила безвыездно. Вот там
Марго и надеялась отсидеться. С билетами проблем не было, она взяла место в
купе и отправилась на поиски таксофона, чтобы позвонить. Сначала хотела
позвонить в деревню и через соседку передать маме, что приезжает завтра, но
передумала, решив, что чем меньше людей о ней будут знать, тем лучше.
Передумав, она позвонила подруге и попросила заняться сдачей квартиры, так
как та была инициатором этой затеи и располагала клиентурой. Человек должен
быть приличный — это необходимое условие. Деньги пусть хранит у себя, пока
Марго ей не позвонит и не скажет, куда выслать. Потом Марго зашла в ближайший
магазин, купила творожную массу с изюмом, сок, хлебцы, чтобы поужинать в
поезде, и поспешила на платформу. И только уютно устроившись на нижнем
сиденье в своем купе и почувствовав, что поезд тронулся, она глубоко
вздохнула и успокоилась. Ездить на поезде было очень приятно. Больше всего ей
нравилось смотреть в окно, пока совсем не стемнело, на пробегающие мимо
деревья, слушать стук колес и пить чай из стакана с подстаканником. Массивные
подстаканники в стиле советского ампира усиливали торжественность момента,
которая заключалась в личном, почти интимном переживании пространства. Это
движение в никуда под стук колес и позвякивание ложечки о подстаканник вошло
в сознание с детства. И осталось. За окном уже темнело. Глядя туда, она
видела свое отражение за стеклом, и это отражение заставило вспомнить всю ее
жизнь, очень быстро. Воспоминания складывались в ритм колес. Иди до-мой, иди
до-мой, – звала мама загулявшуюся во дворе девочку. Люди, лица мелькали, как
деревья за окном. Ка-кая де-вочка, ка-кая де-вочка, – говорили разные голоса
в ответ на желание Марго родить девочку. Ро-дит-ся де-вочка, ро-дит-ся
де-вочка, – Марго поджала ноги и уселась поудобнее. Было так хорошо и уютно,
что она забыла обо всем, и когда за окном уже ничего не стало видно, легла
спать.
И видит Рита, что идет сквозь анфиладу комнат в светлом деревянном доме. В
последней среди других людей стоит он. Она оборачивается, пытаясь лучше
разглядеть каждый раз заново узнаваемые черты лица, а когда отводит взгляд и
проходит дальше, то видит бабушку, стоящую посреди избы. Бабушка раскрывает
навстречу руки и как-то странно улыбается. Больше всего настораживает эта улыбка.
И точно. Через некоторое время она превращается в оскал и с белых зубов
начинает капать кровь. А глаза приветливы, с хитрецой. Рита хочет убежать, но
позади стена.
Марго проснулась и увидела над собой полку и сбоку стенку, и у ног, и кругом
страшная темнота. И если бы не стук колес, она решила бы, что лежит в гробу.
Спать расхотелось. Интересно, что скажет мама, и как ей удастся все скрыть, и
как Марго сможет там рожать, и что ей делать потом. Вспомнив вдруг, какое
сегодня число, она ужаснулась: это же день рождения отца!
***
Он не понимал, как это так могло получиться, что она исчезла. Он все
рассчитал правильно: действительно она жила на даче подруги, – значит поймать
ее на вокзале не так трудно, останется только довести до дома и задержать. А
он быстро подъедет и разберется, что к чему. Агент был надежный. Как ей
удалось улизнуть – непонятно. Он направлялся к ее дому, чтобы проверить, не
там ли она. Собственно, какое ему дело? Сидеть бы у Юли, горя не знать. Но
что такое могло его насторожить, что заставляет преследовать ее?
Неожиданность. Она совершенно неожиданно отказалась от встречи. Такого просто
не могло быть! Она же уже была на крючке. Он знал, что делает. Ничтожны люди.
Подаришь сумку с фруктами, так они по гроб жизни будут благодарны. Проверено.
И здесь тоже. Хотя она всегда нервничала, когда получала эту сумку. Что-то
чувствовала? Не хотела продаваться, но боялась обидеть? Вообще-то, он не
очень знал, что с ней делать. Все время на что-то натыкался. Да и о чем ни
заговоришь – все знает. Не о работе же рассказывать. Но почему она так
привязалась? Конечно, его все женщины любили, и он старался их не обижать.
Так ему казалось. Уж каков на самом деле, он не знал, но при малейшем
недовольстве разворачивался и уходил: сколько таких еще будет. И здесь уже
развернулся, но не совсем еще ушел, иногда, все-таки, тянуло, или нравилось
помучить ее ожиданием. А тут вдруг – не приезжай. Может, хочет что-то скрыть?
Что? Кто-то еще появился? Не похоже. Уж не беременность ли? Говорила, что в
этом смысле не опасна, но на все воля Божья. Этого никак нельзя допустить.
Так-так-так. Времени прошло немало, месяца четыре или больше. Можно уже и
кое-что разглядеть. Нет, во что бы то ни стало надо ее увидеть. И не
допустить любым путем, убрать, избавиться, как угодно. Потомство на стороне,
без его воли – ни за что! Это принадлежит ему. Он занервничал: вот чертова
кукла.
Казалось бы, ничего особенного. Ну что в конце концов такого? Что она сможет
ему предъявить? Он ее знать не знает, да и куда ей против него – кишка тонка.
Но эта мысль не давала ему покоя. Будто стал уязвим. Теперь пока не избавится
от всего этого, не успокоится. Надо ее увидеть. Где она может быть? На дачу
не вернется, опасно. Дома? Тоже опасно, он ведь знает. Куда еще побежит? К
матери. Где это может быть? Вроде, не близко. Надо навести справки.
Он начал действовать. Оказалось, что не все так просто. На ее работу не
очень-то заявишься, светиться нежелательно. Запрос послать – надо объяснять,
отдел кадров просто так ничего не скажет. Вот бы с подругой побеседовать. По
душам. Незаметно он подъехал к ее дому. Что-то шевельнулось в его душе. Сюда
он приезжал не раз, но только поначалу с удовольствием. Ей хотелось большего
от их отношений, чем ему, и поэтому он давал ей почувствовать неловкость, не
упуская своего. С чувством вины или должника, она была покладистой в постели,
и даже изобретательной, что его, в общем-то, утомляло. Он еще раньше хотел
откупиться: средней цены подарок – и прости-прощай. Но она не отпускала. И он
не рвал резко, ждал, когда остынет. Незаметно для себя он подошел к парадной
двери с развевающимися на ветру объявлениями о сдаче и съеме квартиры.
Позвонил в домофон, ответа не дождался и, сорвав хвостик самого свеженького
объявления "СДАЮ", повернулся и быстро пошел к машине.
***
Марго выбралась из автобуса и огляделась: кругом были небеса, и только
узенькой полоской внизу, но до самого горизонта, расположились деревенские
дома и за ними темные леса. Красота здешних просторов всегда действовала на
нее умиротворяюще. Но сейчас открытость местности вызывала опасения, хотелось
спрятаться. Она поспешила к дому.
Деревянный, отчасти вросший в землю дом уже издалека излучал тепло и
притягивал. Это самые щемящие душу мгновения приближения к своему дому. Не
пустому. Там мама.
Когда Марго зашла в дом, мама сидела за столом и пила чай. Увидев свою
изменившуюся дочь, бросилась ей навстречу. Они обе так обрадовались, что
Марго забыла про свои горести и просто наслаждалась, упиваясь близостью
родного человека. Мама засуетилась, не зная, куда посадить, чем накормить, но
Марго хотела побыстрее все рассказать и посоветоваться, как быть. Она не
знала, что ей угрожает и угрожает ли, она знала только одно, что никого не
хочет видеть и что надо быть осторожной. Она поживет здесь, сколько сможет,
рожать все равно лучше дома, а впрочем, как получится. Здесь кругом злые
языки, хорошо бы остаться незамеченной.
Так они проговорили до вечера, выходя из избы на сарай, потом в огород, но не
далее кустов, чтобы соседка не увидела, потом в баньку, потом в подпол, где
полно было всякой всячины, потом по массивной лестнице Марго забралась даже
на потолок, где солнце просвечивало сквозь редкие щелочки в черепице, и в
этих пересекающихся лучах стояла песчаная пыль. Она вспомнила детские
ощущения восторга от проникновения в чужую тайну, когда вот так же,
забравшись на чердак, они замирали от созерцания иного, нетронутого мира.
Потом пили чай с вареньями, потом затопили баньку, потом устроили постель в
пологе, который возвышался красным балдахином в кладовке, потом помылись, и
когда, наконец, высушились, прихорошились и напились особого чаю, настал
вечер. Чтобы не выходить из дома и не попадаться на глаза, Марго пошла на
сарай, откуда как раз открывался вид на закат, а закаты в этих местах были
неподражаемы и каждый раз разные. Вот сегодня всю ночную сторону залило
огненным светом, и лес на кроваво-красном фоне казался совсем черным. Спать
Марго отправилась в полог и сразу же, как в мягкую перину, провалилась в сон
на старой пружинистой кровати под красноватым светом балдахина. И всю свою
сонную ночь не могла избавиться от объятий возлюбленного, иногда почти
задыхаясь от них во сне. А живот ей совсем не мешал.
Жизнь в деревне так устроена, что можно целый день провозиться, что-нибудь
делая, и не выходить из дома, так что Марго, по прошествии нескольких дней
перестав вздрагивать от звука машин и смотреть в окна на каждого проходящего,
спокойно занималась разными делами. Она уже выходила в огород и в палисадник,
где возвышались заросли малины, стараясь не попасться на глаза соседям, но чаще
оставалась внутри дома. Еще через некоторое время она стала выходить к
автолавке, останавливающейся прямо около их дома, чтобы купить лимоны и
фрукты, если мама была занята. Вечером, облачившись в защитный костюм, Марго
уходила за деревню смотреть на закат. Постепенно все невзгоды стали
забываться, дыхание становилось ровным и глубоким. Она вдыхала в себя вместе
с воздухом всю красоту окружающей природы, впитывала все до капли и наполняла
этой дикой вечной красотой себя и своего будущего ребенка. Марго успокоилась,
походка ее стала плавной и уверенной, а жизнь – радостной.
Как-то раз она выбежала к машине и увидела среди привычных торговцев
незнакомого кавказца. Он внимательно посмотрел на нее, отчего ей стало не по
себе. Она постаралась избавиться от неприятного ощущения: мало ли кавказцев
разъезжает по стране, – но тревога в сердце запала. Через несколько дней она
увидела его снова, и снова похолодело в душе. Когда смуглый черноволосый
человек появился на торговой машине в третий раз и в третий раз внимательно
посмотрел на нее, она заволновалась. Восприятие было обострено, она
чувствовала, что это неспроста и решила позвонить подруге и узнать, как дела.
Чтобы позвонить, надо было пойти на другой конец деревни. Только там был
телефон. Марго по привычке повесила на плечо свою сумку с книжкой и кошельком
и отправилась звонить.
Дом, где был телефон, находился на самом краю деревни, окнами выходил в поле
и на дорогу. А за дорогой, до самого горизонта – поле, сливающееся с лесом.
Марго слушала гудки в трубке и не могла оторвать взгляда от этих далей.
Наконец в трубке раздался голос подруги. Она сообщила, что все в порядке,
тихо, никто не объявлялся, а квартиру сдала. Приличный мужик, заплатил вперед
за месяц, а там видно будет. Деньги уже выслала по маминому адресу, давно.
Марго смотрела на дорогу, когда готова была уже повесить трубку, как вдруг
ноги ее подкосились и она рухнула на стул: за окном, замедляя ход, чтобы
свернуть в деревню, ехала его машина. В голове все шло кругом, руки тряслись,
в ушах гулко отдавалось тиканье часов. Казалось, прошла вечность. Марго
вскочила, предупредила хозяйку, чтобы сказала маме, что Марго поехала домой,
а если кто будет спрашивать, на все вопросы отвечать "не видела, не
слышала". Затем бросилась вон из дома, на дорогу к первой же проезжающей
машине. Хорошо, что деньги и паспорт были с собой. Через полтора часа уходил
поезд в Москву, надо было успеть. Может на Главпочтамте и деньги можно
получить по переводу: вдруг они еще не ушли в деревню. Водитель был
нездешний, пожилой и неразговорчивый. Завез ее на почтамт, перевод еще лежал
там, так что деньги она получила, – и на вокзал. Билеты были, и вскоре Марго
сидела в купе, одна, у окна, стараясь унять дрожь и успокоиться.
Дрожь не проходила. Марго хотелось выпить чаю, чтобы согреться, но кипяток в
титане мог появиться через час после начала движения. Она продолжала
трястись, и только когда поезд тронулся и за окном поплыли пристанционные
дома, огороды и деревья подступающего леса, немного успокоилась и затихла в
ожидании чая. Движущиеся сосны, песчаные дороги и стук колес так благотворно
действовали на нее, что вскоре все остальное перестало существовать. Она
растворилась во всем этом и почувствовала себя засыпающей, как вдруг в дверь
резко стукнули: проводница принесла чай. Марго поняла это по звону ложечек.
Но умиротворение было нарушено, а вместо него появилось головокружение и
тошнота. Марго хотела встать, чтобы открыть дверь, но почувствовала резкую
боль в животе. Она вскрикнула и согнулась, сев на сиденье. Проводница уже и сама
открыла дверь, поставила стакан на стол, но, увидев скрюченную позу и
ненормальную бледность молодой женщины, задержалась и предложила помощь.
Марго так хотелось чаю, и было так больно, что она, не зная, что делать,
попросила постелить ей постель. Проводница, понимая, что женщине не по себе и
что все может быть, пообещала вскоре зайти, а может, и врача вызвать. Марго
не хотела никакого врача. Она поблагодарила проводницу сквозь сжатые зубы и
прилегла.
Растянувшись на постели, Марго почувствовала большое облегчение. Ее тело
расслабилось, но боль не утихала. Скоро она стала просто невыносимой:
казалось, что всю утробу выворачивает наизнанку. Ей стало плохо. Она впала в
полузабытье: вроде, целиком сосредоточилась на себе, прислушиваясь к тому,
что там внутри, но слышала и фиксировала все происходящее вокруг. Так, во
всяком случае, ей казалось. Ей вспомнился сон про человека с черными
локонами, который то ли был, то ли не был отцом, или знакомым, или домовым.
Он приближался, бормоча что-то вроде "мое... отдай..." Ей стало
страшно так, что свело судорогой утробу. Живот раздувался, раздувался, пока,
наконец, что-то там не лопнуло. Марго почувствовала под собой растекающуюся
горячую лужу с месивом чего-то мягкого и потеряла сознание.
Очнулась она от громкого ритмичного стука колес быстро идущего поезда. Ее
покачивало вместе с вагоном и от этого страшно мутило. Она старалась все
вспомнить и вспомнила, когда, попытавшись встать, наткнулась на мокрую
остывшую кучу под собой. В свете быстро мелькавших фонарей за окном возникла
ужасающая картина, но Марго не хотела верить своим глазам, пока не включила
свет и не вздрогнула от ужаса: между ног, в чем-то невероятно противном
лежало то, что могло бы быть ее девочкой, – прошло около половины срока.
Марго опять потеряла сознание.
Проводница забеспокоилась, что там с пассажиркой, которая села ни жива ни
мертва, а потом мучилась от боли. Она постучала, но дверь в купе никто не
открывал. Пришлось воспользоваться ключом. То, что она увидела, повергло ее в
ужас: бесчувственная женщина лежала в куче какого-то кровавого месива.
Проводница почувствовала приступ тошноты, но страх заставил ее шевелиться.
Она побежала к начальнику поезда, чтобы найти врача по радио, – до ближайшей
большой остановки было еще далеко. На счастье в поезде ехал акушер-гинеколог.
Им оказался коренастый черноволосый мужчина. Он попросил чистую простыню и
полотенце и закрыл за собой дверь.
***
Пока он все делал по плану. Вот и квартиру заполучить удалось довольно
быстро. Здесь все знакомо. Даже приятно будет иногда провести время. Но
сейчас надо действовать. Сюда она, конечно, придет, но ждать нельзя, сколько
на это нужно времени? Здесь мало что меняется, значит где-то должны храниться
письма, в том числе и от ее мамы, а там есть адрес... Так и есть. Далековато,
но ничего.
Он все делал быстро: быстро нашел агента, быстро объяснил ему задачу, быстро
отправил его по адресу и довольно быстро получил сообщение, что все в порядке
– она там. Теперь можно не торопиться, все равно никуда не денется. Прежде
чем отправиться за ней, ему необходимо было сделать одно дело. Квартира была
нужна и для этого, потому что он должен был исчезнуть, исчезнуть для всех,
кроме начальника и двух своих людей. Из этой квартиры он и руководил
операцией. Его никто не видел, не знал. Непосредственный исполнитель знал
только его человека, да и то по телефону. О том, что все получилось, он узнал
из теленовостей. Показывали недоумевающих милиционеров, машины с мигалками и
кареты скорой помощи, которые были не нужны: клиент скончался на месте. Теперь
он был свободен, и даже лучше было уехать ненадолго куда-нибудь подальше.
Пора было заняться подругой. Верный конь был под рукой, вещи и продукты можно
было купить по пути. Дорога звала. Это единственное, чему он отдавался
целиком – бесконечная дорога.
Путь лежал через поля, леса и старинные русские города. Места были
необыкновенные: холмистая местность, прекрасная панорама, леса без конца и
края до самого горизонта и дальше. Такого соснового бора ему видеть не
приходилось. И голубой мох, делающий эти бор прозрачным, он видел впервые.
Дикая красота отвлекла его от тревожных мыслей о Марго. Никуда не денется,
отдаст то, что ей не принадлежит. Он не хочет никаких детей на стороне.
До места, где скрывалась Марго, оставалось совсем немного. Он решил въехать в
деревню с дальнего конца, чтобы получше рассмотреть все вокруг. Так и сделал.
Вся жизнь скрывалась внутри домов, которые внимательно смотрели окнами на
дорогу. Он чувствовал, что за ним наблюдают. Это хорошо – значит, никто и
ничто здесь не скроется от глаз, и обязательно кто-то что-то увидит. Главная
трудность в том, чтобы подойти к ним, расспросить, но он был большой мастер
раскручивать людей, вызывая их на откровенный разговор. По докладам своего
человека он знал, где располагается ее дом. Он ехал медленно, давая
возможность рассмотреть себя и свою роскошную машину всем любопытным
невидимкам. Когда показался ее дом, у него появилось неприятное ощущение в
груди, – это был признак неудачи. Он остановил машину и закурил. Сигарета
истлевала, постепенно приближаясь по размерам к фильтру, но ничего не
происходило и никто не выходил. Слева от дома проходила проселочная дорога,
значит, можно было оправдать его внезапное появление именно около этого дома.
Он повернул на эту дорогу и остановился за поленницей так, чтобы не бросаться
в глаза. Он вышел из машины и глубоко вдохнул чистый, даже какой-то вкусный,
воздух. Дверь была на замке. От самой двери за дом вела дорожка. Он решил
обойти дом кругом и, пройдя по дорожке, попал в огород. Там на грядке
копошилась женщина. Он подошел поближе, и когда женщина поднялась и взглянула
на него, сразу понял: это ее мать. Он поздоровался, попросил напиться и
сказал, что она единственный человек, которого он заметил в будто вымершей
деревне. Женщина не пригласила его в дом, а подошла к колодцу и стала крутить
ворот, опуская ведро все ниже и ниже. Он видел, как она напряжена. Этого было
достаточно, чтобы понять, где ее дочь: она здесь. Он спросил, нельзя ли у нее
или где-нибудь еще остановиться на день-другой, передохнуть, за деньги,
естественно. Женщина сказала, что пускают незнакомых людей неохотно, разве
что алкоголики, но у них он и сам не захочет спать. У нее, к сожалению, нет
места: дом старый, небольшой. К тому же она одна и не может оставить
незнакомого мужчину на ночь – люди что скажут. Женщина уже немного
нервничала, поглядывала на дорогу. Он понял, что в доме никого нет и что
Марго может вот-вот появиться. Машина стоит не перед домом и не сразу будет
заметна. Надо подождать. Он извинился за беспокойство и пошел к машине.
Действовать будет по обстоятельствам. Но время шло, а никто не появлялся.
Теперь начал нервничать он. Что делать? Идти искать по деревне? Спрашивать?
Понятно, что он может ее спугнуть, но что она предпримет? Спрячется здесь?
Уедет? Куда? Он решил, что самое разумное – остаться здесь на пару дней и
посмотреть, что да как. Нужна разговорчивая старушка. Он у нее остановится и
за пару дней непрерывных разговоров все узнает.
Так и вышло. Он нашел дом с одинокой старушкой, щедро заплатил, и она,
стосковавшись по собеседнику, говорила без умолку. Он узнал все, что надо, а
именно: что Марго была здесь, что она брюхатая, про жениха ничего не
известно, вроде, пряталась, а тут вдруг как ветром сдуло, но люди-то видели,
садилась в машину в сторону города. И чего сорвалась? Прямо вот перед ним.
Через день он уехал. Обратный путь показался ему короче.
***
Марго очнулась и увидела черноволосого мужчину, который что-то делал у ее
ног. Она испугалась, но он попросил потерпеть: необходимо было предотвратить
возможность кровотечения. Скоро полуторачасовая стоянка, и можно будет
вызвать "скорую". Может, понадобится госпитализация. Марго не
собиралась ни в какую больницу, и поезд покидать она не собиралась, – она
хотела как можно скорее попасть в Москву. Лучше там вызвать "скорую".
Он обещал помочь, но надо сделать уколы, поставить капельницу и прочее, так
что помощь все равно будет необходима. Марго не сопротивлялась, только
попросила все это месиво убрать в целлофановые пакеты и спрятать. Слезы
душили ее: бедная девочка! И колеса опять стучали в такт неслышимым
причитаниям.
"Скорая" на этой станции приехала, врачи за деньги быстро
согласились все сделать, как их просили, и успокоили начальника поезда, что
трупа не будет. До Москвы Марго была под присмотром черноволосого врача, и
если бы не слезы, которые лились и лились из глаз, можно было бы сказать, что
чувствовала она себя неплохо.
В Москве ее встречала тоже "скорая". Как в кино, – подумала Марго.
Здесь она даже с удовольствием поехала в больницу, потому что в такую рань идти
ей было решительно некуда. С черным доктором они попрощались, Марго обещала
позвонить. Свою сумку Марго взяла с собой, подумав, что не стоит никого ни о
чем просить, а холодильник она сама где-нибудь найдет. Она еще не знала,
зачем все это делает. Наверное, хотела сама схоронить свое горе. С этой
сумкой она натерпелась, но дотащила до палаты и спрятала, а потом пошла на
обследование и лечение. Ее терзали и распинали и так и сяк, но она не
чувствовала ни стыда, ни боли. Внутри все застыло, и даже думать она не
могла. Пакет лежал в холодильнике, он был совсем небольшим и уместился в
морозилку, где не было ничего, кроме резиновых пузырей со льдом. Ее
продержали два дня, а на третий выписали по ее же просьбе, так как все было
более или менее в порядке. Она вышла из больницы, неся свой скорбный груз, и
направилась домой. Она смогла позвонить подруге, и та сказала, что жилец
куда-то уехал, так что квартира скорее свободна, чем занята. Марго подошла к
подъезду и остановилась: слезы подступили к глазам из-за нахлынувших
воспоминаний. Все не так! Она медленно поднималась по лестнице, считая
ступеньки, чтобы не рыдать. После двухсот сбилась, но уже был ее этаж. Она с
трудом попадала в замочные скважины, так как руки дрожали, но, наконец, все
открыла и переступила порог своей квартиры. За письменным столом к ней спиной
сидел ОН. Она даже обрадовалась, так как сразу поняла, что сделает сейчас. И
еще поняла, что именно об этом и думала. Она поставила сумку на пол и стала
ее расстегивать. Потом достала страшный груз.
– Ты за этим пришел? Получи! – она бросила в него пакет с кровавым месивом. –
Я думала, ты меня любил. Мне так этого хотелось.
Пакет шмякнулся у самых его ног, и этот звук залепил ей душу: Марго больше не
видела и не слышала. У нее перехватило дыхание, и она тихо сползла по стене.
Она видела себя в зеркале маленькой девочкой в красивом платьице и новеньких
туфельках с негнущимися цокающими подошвами. В ушах гудело: "Риту-у-усь,
сладкий мой, ты у меня лучше всех..." И бабушка, смеясь, обнимала ее. Она
не видела, как он с совершенно белым лицом встал, взял пакет и, перешагнув
через нее, навсегда вышел из квартиры, захлопнув дверь. Ключи и
бесчувственное тело Марго остались с этой стороны.
К вечеру обеспокоенная подруга нашла ее, но все было кончено. Никого и ничего
уже не было.
Неизбежность
Всему свое время, и время всякой вещи под небом...
(Еккл. III, 6-8)
Ты долго думаешь, что все происходит так, как ты себе представляешь, пока
не сталкиваешься с неизбежностью, которая вторгается в жизнь помимо твоей
воли. Со стороны ты наблюдаешь ее часто: в вымышленном мире или в чужой
жизни, — но все это только в твоем представлении. Почувствовать неизбежность
можно лишь на себе, на своем опыте, а раз почувствовав, ее можно создавать.
Неизбежность бывает разная, и раз возникнув, напоминает о себе еще и еще,
пока не приводит к гробовой доске, вонзаясь в нее железным гвоздем.
Неизбежность всегда неожиданна и всегда изумляет. Даже если становится
образом жизни.
Впервые она может предстать в виде несправедливого наказания. Ты никак не
можешь допустить, что это произойдет с тобой. Но когда все дети встают, а
тебя оставляют лежать в ставшей липкой постели, понимаешь, что это произошло
с тобой и ты не в силах что-либо изменить. И слезы появляются от жалости к
себе и оттого, что так бывает.
Потом она является в виде нарушения порядка и красоты. Вот ты из любопытства
разбираешь игрушку, подаренную кем-то, а когда собираешь ее обратно, она не
выглядит, как прежде. Тогда, заливаясь горькими слезами от жалости к игрушке,
ты понимаешь, что как прежде — не будет никогда. И в этом понимании – начало
конца.
И вот неизбежность входит в череду событий и предстает то в облике потерь и
неудач, то в виде несчастного случая, способного даже прервать твою жизнь или
жизнь близкого человека. И ты не в силах что-либо изменить. А потом уже и не
хочешь. А потом наступает время, когда неизбежность ты создаешь сам. И это
называется роком. И ты выходишь, или не выходишь, за пределы собственной
судьбы. Выходишь, если появляется искушение все начать сначала, возвращаясь в
воображаемое прошлое и тем самым замыкая круг, из которого не выйдешь уже
никогда. Ты думаешь, что счастлив, но в счастье заложена неизбежность конца,
ибо всегда есть ощущение собственной вины, потому что для своего настоящего
счастья ты забираешь чье-то прошлое или будущее счастье. И всегда торжествует
неизбежность наказания за это. И чтобы оттянуть наступление неизбежного, ты
начинаешь восстанавливать прошлое, прокручивая цепь событий назад в их
следственно-причинной связи, подбираясь к началу – собственной вине, когда,
создавая неизбежность, ты безжалостно покидал всех и вся ради любопытства,
удовольствия и неясной цели, а потом все неизбежно покинули тебя. И ты
остался, как и был, – один.
Забвение
Что было, то и будет;
и что делалось, то и будет делаться,
и нет ничего нового под солнцем.
(Еккл .I, 9)
В незапамятные времена на Земле жили-были мужчина и женщина. Их звали Адам и
Мада. Они были созданы словом по образу и подобию Божию. Адам был наделен
божественным духом, и Мада тоже получила благословение от Господа. Адам
обладал всею землею, и Мада владычествовала над рыбами морскими, над зверями
лесными и над птицами небесными, над всяким скотом и над всяким гадом,
пресмыкающимся на земле. Адам и Мада смотрели друг на друга и видели в другом
себя. Каждый из них любил Творца по-своему, каждый говорил с Ним сам и сам
искал к Нему путь. Делали они это вместе, потому что вдвоем они были ближе к
Богу.
Мада любила провожать солнце пением. Когда на Землю опускалась легкая
прохлада, она выходила на холм и начинала петь. И пока было видно солнце,
звучал ее божественный голос. В такие минуты она говорила с Богом, и лицо ее
становилось еще прекраснее. Впитав этот закатный свет, Мада возвращалась к
очагу, прибавляя к теплу сияние, и в этом тихом сиянии они проводили ночь.
Адам любил выстраивать Вселенную. Размышляя, он чертил на земле какие-то
фигуры, и тогда весь мир представал ясным и расчлененным. Мысли превращались
в нити, показывающие пути мироустройства такого, каким видел его Адам. И он
чувствовал себя наделенным Божественным разумом. Особенно он любил делать это
в сумерки, в послезакатное время, когда солнце уже не мешало, а темнота еще
не наступала, тогда представление было более ясным. Но с некоторых пор ему
что-то стало мешать. Он не мог понять, что. Его конструкция застыла и
перестала быть видимой. Он хотел найти причину случившегося, стал нервничать,
злился, пока не понял в чем дело: ему мешало сияние, исходившее от Мады. Этот
свет делал его конструкции бледными, зато Мада вся светилась: она любила
жизнь, любила Адама, она хотела счастья. Заметив, что его стало тяготить ее
присутствие, она перестала выходить к закату, перестала петь, перестала
светиться, но Адам все равно чувствовал себя обделенным.
И тогда Адам обратился к Богу. Он просил помощи и избавления. И вот он уснул,
и приснился ему чудесный сон, будто сотворил Бог человека из праха земного и
вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. И насадил
Господь райский сад на востоке и поместил туда Адама, только его одного. Спит
Адам, а Господь взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Бог
из ребра Адама жену и привел ее к нему. Адам проснулся и увидел рядом жену. И
сказал Адам: вот кость от кости моей и плоть от плоти моей, и будешь
называться ты женою, ибо взята от мужа своего, и мы с тобой одна плоть. И
были оба наги, и не стыдились, и не замечали недостатков друг друга. Адам
перестал видеть себя в жене, как в зеркале. Он забыл про свои конструкции, и
жена ему больше не мешала. Они всегда были вместе: вместе ели, вместе спали,
вместе развлекались, не зная ни забот о ком-либо, ни холода, ни голода.
Адам почти не вспоминал Маду. Перед глазами все время была жена и, глядя на
нее, очертания фигуры той женщины, которая его так когда-то восхищала, таяли,
принимая уродливые формы. И лица он не мог вспомнить. Прежнее ощущение от
светящейся прелести ее облика стало стираться в памяти, замещаясь неясными
очертаниями его жены. И он, пытаясь вспомнить, видел только искаженное
злобной гримасой лицо, хищный блеск глаз, уродливо свисающие складки щек,
груди, живота, и все это колыхалось и требовало теплоты. И тогда Адам вообще
переставал видеть.
А Мада оставалась одна. Ей было холодно и грустно. Согревал ее только
обретенный ею дар, и теперь, когда солнце садилось, она обращалась к нему
словами, которые складывались в строки и звучали как песня:
За темнеющие дали солнце тихо закатилось, а когда оно сияло – о него сжигала
руки, и души глухие звуки наполняли чашу ливня. Чашу горечи заполню каплями
седого ливня, а не горькими слезами. Лучше буду любоваться я закатными лучами
остывающего солнца, лучше буду любоваться…
Она растворялась во всем этом и уже не чувствовала себя чем-то отдельным
от заката, от слов и звуков, от близко висящих спелых ягод и небесной дали.
Ее представление о себе замещалось ощущением пространства, а чувство формы и
красоты исчезало. Когда она не смогла больше вспоминать, какими они с Адамом
были когда-то, ее не стало.
Адам был доволен жизнью. Беспокойство исчезло. Он наслаждался. Знать он хотел
только одно: что там за соседним кустом, и нет ли там дерева, плода от
которого он не вкусил. Но жена приносила все время что-то вкусное, и он,
наевшись, засыпал у нее на груди.
А жене с некоторых пор стал нашептывать на ухо некий голосок, что есть, мол,
особый плод, который поможет познать тайны жизни и приблизиться к Богу, и
быть равной ему по образу и подобию. И увидела жена, что плод привлекателен и
хорош для пищи, потому что дает знание, и взяла от дерева плодов, и ела, и
дала мужу своему, и он ел. И по мере того, как плод таял во рту, мир вокруг
принимал реальные очертания: деревья, кусты, цветы, глаза, нос, рот, тело… И
увидели они, что наги, и сшили широкие листья, и сделали себе опоясания.
И испугались они Отца своего, и спрятались от лица Господа между деревьями.
Запрет был нарушен. И Господь проклял искусителя, и умножил скорбь жены,
обрекши ее на муки в продолжении жизни, и отяготил влечением к мужу, и
закрепил его власть над нею.
И проклял Господь Землю за Адама, заставив со скорбью питаться от нее до конца
дней и в поте лица, доколе не возвратится в Землю, прахом в прах. И это будет
жизнью его.
И ужаснулся Адам Божьему суду, и нарек имя жене своей Ева, что значило жизнь,
ибо был обречен.
И они вернулись на Землю. И казалась она уродливой и неприветливой, потому
что была забыта ими ради рая, куда путь теперь был перекрыт огненным мечом. А
Мада давно была у Господа.
Комната смеха
Мир такой, каким видит его
женщина…
Женщина неторопливо шла по шуршащей от мелких
камешков дорожке и о чем-то думала. Она подставляла лицо мягким солнечным
лучам предвечернего солнца. Ее спокойное состояние передавалось всему
окружающему: все было таким, каким творила ее душа. Так было в детстве, когда
она проникалась всем миром и природой, и деревья становились ее
собеседниками, и она говорила с ними, и могла ощущать весь мир, и мир был
таким, каким она его чувствовала. Душа женщины была умиротворена.
Никто вокруг этого не замечал. В слышимой тишине общее движение замедлялось.
Женщина и сама замедлила шаги, прекращая характерное шуршание, и остановилась
перед круглым павильоном. Он напомнил ей театральную карусель, где вход
совпадал с выходом.
Она стояла перед закрытой дверью. Там были кривые зеркала – здесь был
затихающий мир. Здесь царила умиротворенность – там мир расколется на зеркала,
в которых она увидит себя со стороны. На какое-то мгновение женщина
усомнилась: идти или нет дальше, – но перешагнула порог и вошла. Дверь за ней
захлопнулась.
Удивительно, но в этом павильоне не было потолка, то есть он был прозрачный,
а потому невидимый. Зеркала располагались в один ряд, создавая прямую линию
так, что сливались в сплошное непрерывное зеркало, обходящее центральный
стержень и сливающееся с ним в обозримом пространстве. Женщина удивилась, как
эта прямая линия может образовывать круговой павильон, у которого конец
совпадал с началом. Любопытство заставило ее войти в этот круг.
Каждое зеркало представляло какое-то одно искривленное пространство с одним
кривым отображением, завершая галерею образов действительным отражением в
прямом зеркале, перед самым выходом. Получалось, что прямое зеркало
оказывалось у нее за спиной, и уже сейчас она могла оглянуться и увидеть свое
истинное отражение. Но она не сделала этого. Любопытство пересилило, но не
заслонило некоторого страха, и женщина поискала, на что бы опереться. Тут
появился служитель и предложил свою помощь в качестве сопровождающего. Он
показался ей знакомым, и она с благодарностью согласилась: пусть он поможет
ей увидеть себя со стороны.
Вместе они подошли к первому зеркалу. В нем неестественно была расширена
нижняя часть тела, а верхняя стремительно сужалась, и вместо головы был
вытянутый, исчезающий в пространстве угол. Она ощутила сильное волнение, как
новобрачная перед посвящением во вселенскую тайну. Стало неловко. И если бы
не сопровождающий, она повернула бы обратно. Странным образом его отображение
образовывало треугольник, направленный острым углом вниз. Но вместе они не
сливались в одну фигуру. Ее волнение передалось и природе: сквозь стеклянный
потолок видно было потемневшее небо, стремительно пролетающие листья говорили
о сильном порыве ветра, а через некоторое время застучали капли дождя и
засверкали молнии. Единственно, что не нарушалось, так это тишина.
Во втором зеркале тело приняло ромбическую форму, обращая внимание на
середину тела. Тревога куда-то исчезла, может быть потому, что гроза
прекратилась. Шел дождь, сквозь тучи проблескивало солнце, откуда-то пахнуло
дождевой свежестью. Она вдруг ощутила весь мир в себе, будто под сердцем
источало свет и тепло солнце. Несоответствие нелепого вида и теплого
переполняющего чувства смутило ее. Она обернулась, ища поддержки, но спутника
уже не было. Резкая боль пронзила ее тело, и она привалилась к центральной
колонне, а когда взглянула в зеркало еще раз, то увидела, что ромбовидная
часть тела странным образом трансформировалась в младенца, возлежащего на
руках.
В третьем зеркале при уменьшившемся до небольшого шарика туловище выросли
руки и ноги. Длинные, переплетающиеся, в большем, чем нужно, количестве, они
напоминали паучиху – несчастный результат состязания Арахны с Афиной. Глядя
на это многорукое с заплетающимися ногами отражение, женщина ощутила себя
неимоверно усталой, будто навалилась на нее вся тяжесть мира,
сосредоточившись в ней единственным желанием сесть и отдохнуть. Она
чувствовала, что зеркало тоже видело ее с этой тяжестью, потому что отражение
соответствовало самоощущению. А чувствовала она себя совершенно
обескураженной и, как паучиха в паутине, спешащей оказаться одновременно
всюду. Про спутника она уже забыла, как забыла взглянуть на потолок, и что
там творилось на улице – не видела.
В следующем зеркале у изображения уехала в сторону голова. Шея вытянулась и
так странно и неестественно извернулась, что можно было видеть не только все
вокруг, но и самое себя. Идеальная форма самооценки, совпадающая с
древнегреческим афоризмом. Субъект и объект осознавался одновременно. Со
стороны это выглядело странно. Еще более странно это должно было
восприниматься окружающими. Она ощутила холодок от недоброжелательности и неудобство
от воспоминания о постоянной неприязни и осуждении, возникающих в любом
окружении. Стало холодно. Процесс самоосознания вызывает всеобщую неприязнь и
кажется уродством. Таких «вывернутых», как в этом зеркале, не так уж мало, но
они обособлены, редко узнают друг друга, разве что по всеобщему неприятию, по
«сгущению туч». А над головой было на удивление ясное небо, без единого
облачка, окрашенное предзакатными лучами солнца.
Постепенно становилось темнее. В следующем зеркале отделилась и поехала в
сторону нижняя часть, увлекая за собой и верх. И только тонкий перешеек
связывал ее с тем местом, где находилось сердце и голова. Нижняя часть не
только выступала самостоятельно, но и разрасталась до невероятных размеров.
Женщина вспомнила то ли сон, то ли звон в голове, переходящий в разрастание
какой-либо одной части себя, той, на которую обращаешь внимание, будто
надуваешь воздушный шар. И хотя искажение пропорций в сравнении с другими
зеркалами было сильнее, оно не вызывало отвращения: дикое низменное чувство
порождало восторг и наслаждение, заслоняя все остальное. Женщина подумала,
что она воспринимает суть изображения через ощущение, но все остальные могли
увидеть только искаженное очертание, деформацию. Хорошо, что рядом никого не
было.
Следующее, предпоследнее, зеркало сжало отображение до вытянутой вертикально
струны. И женщина опять вспомнила это стремительное истощающее чувство
движения вверх с одним желанием: помилуй нас. Она так и застыла в ощущении
этого движения души, не видя и не слыша никого и ничего.
Последнее зеркало было прямым. Оно должно было показать то, что есть. И когда
женщина сделала последний шаг (перешла к нему) и посмотрела – она ничего не
увидела. В первое мгновение ей трудно было понять, что происходит, и,
оставаясь на месте, продолжала вглядываться в отражающую поверхность: там
ничего и никого не было! Прошло еще сколько-то времени, а потом еще, прежде
чем она смогла сосредоточиться. Как же так? Пока уродливо выпячивалась
какая-либо одна ее сущность, все можно было видеть, но как только стало
возможным посмотреть в прямое стекло, отражающее все как есть, – ничего не
стало. Ее не стало. Не осталось.
Не только она ничего не видела в прямом и правильном, как сама судьба,
зеркале. Тут откуда ни возьмись явился спутник, внезапно исчезнувший в начале
пути. Он подошел к ней и посмотрел в зеркало: ничего, кроме темноты и
собственного отображения, он там не увидел.
Страсти не по-китайски
Nec tecum possum vivere, nec sine
te.(Martialis.XII,47) …
Женщина еще жила, когда он отрезал очередной кусок от ее высохшего,
изможденного тела. Это был кусок у самого сердца, и он был последним,
искривляющим прямую линию, образованную ранее вырезанными кусочками на груди.
После той операции женщина перестала ощущать свою связь с живой природой.
Прежде она еще источала хоть жалкую, но жизненную силу, и та сочилась,
дымящейся кровью отвечая на нанесение раны, потом — кровь иссякла. Нет, она
еще переливалась по венам и артериям, заставляя сердце трудиться, но на мелкие
сосуды ее уже не хватало. Кровь текла вяло, быстро сворачиваясь на открытом
воздухе, но скоро перестала течь вовсе, будто бы застыла от ужаса еще внутри.
Теперь, когда кусок, закрывающий сердце, был отрезан, стало видно, как оно
слабо трепыхается. Будто давно выброшенная на лед рыба. Сердце стало
беззащитным.
С чего все начиналось? Кажется, они затеяли игру в «1000 кусочков по-русски»,
то есть не на столбе и прилюдно, как в изощренном на пытки Китае, а в
повседневности, обыденно, не подавая виду: один — что ранит близкого
человека, самоутверждаясь, другой — что, потакая, становится инвалидом, — и
продолжали жить как всегда. Действовал негласный уговор, неизвестно кем
назначенный, и эта совместная тайна сближала: они жить не могли друг без
друга.
Началось со ступней ног. Первая же рана причинила неудобство: стало больно
ходить. Она помнила этот день, потому что он впервые подарил ей цветы,
темно-красные, как кровь, розы. В течение двух недель, никем не
установленного перерыва, рана затягивалась и боль утихала, видимо, для того,
чтобы возникнуть вновь с не меньшей силой. Правая и левая стороны
чередовались, поэтому уже через пару месяцев каждый шаг вызывал острую
режущую боль, как в сказке о русалочке. Ходить становилось все больнее и
больнее, несмотря на то что и с болью жить привыкаешь. Как-то незаметно она
перестала выходить и все чаще оставалась дома. Более того, оказалось, что
будет ребенок, и стало понятно, что дома больше не покинуть.
Первую опасную рану он нанес, когда она была на последнем месяце: задел
жизненно важную артерию. Придя в себя, она обнаружила рубец. Первый. До этого
все обходилось довольно гладко. Без рубцов.
Появление ребенка на какое-то время остановило далеко зашедшую игру:
требовались силы для вскармливания. Младенец рос. Успев забыть о страданиях,
женщина пыталась вернуться к жизни, вспомнила даже о работе, но игра
возобновилась – дети не могут без игры, – и он продолжил убивать в ней
женщину, потому что она не видела в нем мужчину.
Жизнь опять сосредоточилась на доме. На улицу выходила, чтобы погулять с
ребенком. Сил хватало только на это. Больше никуда она пойти не могла.
Игра-пытка стала повседневностью, превратившись в сплошную боль. Боль
вытесняла все остальные чувства, и даже если удавалось чем-то заняться и
отвлечься от нее, продолжалось это недолго. Несколько раз он отлучался в
длительные поездки, и она забывала о ранах своего уже наполовину изувеченного
тела. Но страдания заменялись тоской: без него тоже было плохо. Хотя за это
время огонек жизни, полученный ею как дар при рождении, успевал разгореться,
и сияние, исходившее изнутри, делало невидимыми раны.
Когда стало понятно, что они встали на путь гибели и что уже ничего не
поправишь, она вдруг запаниковала, предпринимая судорожные попытки спастись,
сохранить жизнь во всей ее полноте. Это было нелепо, потому что обречено, и
походило, скорее, на агонию, чем на спасение, или — на иллюзию спасения.
Спасения от него. Во всяком случае, ей казалось, что удалось отстраниться.
Она даже вернулась в свой мир, как в детстве. На какое-то время. Может
поэтому смогла выдержать, когда он нанес самые страшные раны. Правда, она
потеряла жизненную силу, но получила передышку: он долго не решался тронуть
ее. Пока, наконец, ему не надоела эта кривая линия.
Она приняла иллюзорность всего, когда было уже поздно. Он внушил ей эту
мысль, заставил поверить, подавая пример ребенку, и она поняла, что все может
повториться, но с удвоенной силой. У нее не оставалось другого выхода.
И вот она умирала. Сердце слабо трепыхалось, как давно выброшенная на лед
рыба. Она понимала душой и телом, что больше не вынесет, но радовалась, что
нетронутым останется лицо, что сохранится облик, как будто очертание могло
противостоять иллюзорности. Что-то все-таки произошло, и иллюзия исчезла. Она
освободилась.
Безумие
…и безумие его с ним
(1Цар.XXV,25)
Она защищалась всегда. Каждую минуту могли напасть, значит, всегда надо
быть готовой к обороне. Она старалась уходить от неприятеля и поэтому
говорила громко и на ходу, вполоборота. Зато сразу всем. Они же всюду.
Обороняться приходилось с утра. Дома еще ничего, сосед сейчас не жил здесь,
так что можно было спокойно передвигаться по квартире. А вот на лестнице она
уже настораживалась: в любой момент могло что-то произойти. Вчера, например,
сосед вышел с собакой без поводка, напугал, ирод. Ну, уж она ему сказала все,
что думает по этому поводу, и не только она, но и мэрия. Слава богу,
грамотная, газеты читаю! Внизу у почтовых ящиков опять война: засовывают в
ящики вражеские листовки. Только мусора больше становится.
У подъезда снова враги, самые ненавистные – это автомобилисты. Наставят свои
автомобили прямо у дома: и шум, и вонь, и кошечек с собачкой – бездомные
твари, жаль их – пугают. Собачку вот покормить надо, а магазин еще не
открылся, купить негде. Она затравленно озиралась по сторонам: погнутые
деревья, помойка, машины, затоптанный газон…
А ведь было время! Она выпархивала из подъезда навстречу солнцу, навстречу
душистым, только что омытым водой цветам на громадной клумбе посреди двора,
навстречу молодым ярко-зеленым деревцам, окружавшим центральный дворик.
Легкое шифоновое платье облегало тоненькую фигурку, светлая коса плотно
прижималась между лопаток, только растрепанным кончиком качаясь, как маятник,
по пояснице. Весело помахивая авоськой, она устремлялась к открывающимся
дверям магазина…
Магазин еще только открылся. Женщины-продавцы выносили свой товар, выкладывая
его на витрину. В овощном отделе молодая девушка выставляла корзиночки с
фруктами и ягодами, грузчики подтаскивали ящики с овощами. В мясном отделе
витрину-холодильник заполняли подносами с мясной мякотью и котлетами. В
рыбном отделе было еще пустовато: сухая и всевозможно копченая рыба,
консервы, замороженные рыбные блоки. Внезапно внимание всех привлек громкий
крик. Седая старуха с выбивающимися из-под платка прядями стояла у рыбного
прилавка и нервно взвешивала по очереди две высушенные рыбины, сопровождая
это злобными выкриками:
– Я собачке и кошечке хочу купить поесть, а тут… Сколько тут?
Она тыкала воблой в продавщицу и кричала, что ее обманывают, что мало того,
что три часа ждала, так еще и обвешивают.
Вдруг что-то изменилось в ее представлении. Она направилась к выходу, но все
время нервно оглядывалась по сторонам, обороняясь от кого-то громкими
возгласами о несправедливости и обмане. Продавщица смотрела ей вслед,
покачивая головой:
– Сделайте хоть радио погромче, чтобы не было слышно. Не дай Бог дожить до
такого.
Старая кукла
И увидел Бог все, что Он создал,
и вот хорошо весьма.
(Бытие I, 31)
У меня никогда не было красивых пяток. У всех пяточки, а у меня – невесть
что. А ведь бывают вообще идеальные: ровные, округлые, розовые, гладкие и
чистые. Мои же быстро сохнут, притаптываются с боков и пачкаются почему-то.
Да что пятки! Щиколотки-то какие некрасивые: узловатые, с крупными венами.
Эти вены выпирают и на верхней части стопы, образуя целую сеть синеватых
узоров, покрывающих жилистую лапу с чуть расплющенными пальцами. Подумаешь,
щиколотки… На ноги посмотрите! Ну кто додумался сделать такие ноги! Неужели
нельзя было подлиннее и попрямее. Надо было вытянуть кость до колена
побольше, чтобы точеная, она устремлялась вверх и, перехваченная коленом,
вытягивалась бутоном-бедром и распускалась цветком ягодиц. А тут? Ну что это
за линия? Сдается, ваятель был нетрезв, и рука его была неверна, когда он
выводил набросок. А увидев, что получилось, попытался с помощью мышц скрыть
ошибку. Господи, кто его обучал! А колено? Острое, съехавшее в сторону, из-за
чего чуть выпирает вбок, смыкая изогнутую линию нелепых ног. Ну что из такой
завязи может распуститься? Где Он был, когда ваяли мое бедро? Дальше – и
говорить не хочу (это отдельная тема), сразу на живот перейду. Все было бы
ничего, если бы его не было. В лежачем положении его отсутствие мне нравится,
но как только встану – его присутствие делает меня тюльпанообразной, если
сбоку посмотреть, нарушая идеальную картину. Ладно, талия еще куда ни шло,
тут Создатель не забыл изгиб сделать, но опять-таки, лучший ракурс – в три
четверти. Кто же будет его выискивать? Выше – хуже: на грудь без слез не
взглянешь, а взглянешь – вздохнешь, вспоминая о былом.
Вот, собственно, и все. Дальше просто ничего не вижу и про лицо сказать
что-нибудь не могу – к зеркалу не подхожу: раз Создатель на мне отдыхал,
отдохну и я. А вот если представить себе вид сзади, то, думаю, ягодицы ничего
себе, но их не вижу тоже, как не вижу поясницу, спину, лопатки и плечи,
переходящие в тонкую шею, едва прикрытую вьющимися волосами. И слава Богу,
хоть этого не вижу. Но вижу зато свои руки. Боже милостивый! Неужели не
нашлось для меня побольше материала! Таких тонких рук с выпирающими
суставами, просвечивающими венами, складывающимися в рисунок на больших
кистях с длинными пальцами, надо поискать. И ладно еще, если бы хоть все
симметрично было, а то одно плечо выше другого, и одна нога короче другой.
Из-за этого осанка нарушена, при ходьбе приходится непроизвольно подпрыгивать
и руками всплескивать, чтобы незаметна была их несоразмерность. И молчать
приходится, в основном, потому что голос неприятный: низкий, грудной, при
напряжении становящийся высоким и резким. Но Создатель любит свои творения
такими, какими они получились, потому что наделяет их необыкновенно
прекрасной душой, свет которой таится в глубине глаз, а Он всегда зрит в
глубину.
Ожидание
Блажен, кто ожидает.
(Дан. XII,12)
Он застывал. Положив ногу на ногу и съежившись, чтобы удержать остатки
тепла, он не мог пошевелиться и все сильнее вдавливался в колоду, на которой
сидел. Засаленная одежонка – валенки, штаны, телогрейка, шапка – давно
задубела и ничуть не грела. Заскорузлые пальцы, выглядывающие из рваных
перчаток, набухли и почернели от холода и грязи.
Он сидел совсем один. Так он себя ощущал, хотя рядом была детская площадка
или школьный двор, где кричали, играя, дети, – гул их голосов едва проникал к
нему сквозь глухую завесу, а отблески огней и вовсе едва различались. Его
глаза и кожа лица потеряли чувствительность ко всему, кроме леденящего
дуновения пустоты. Влажный холод стекал по лицу, собираясь слюной на
растрескавшихся губах. Он подумал, что надо бы закурить, но руки не слушались
его: невероятная тяжесть не давала приподнять их и не хватало сил, чтобы
пошевелить пальцами или собрать их в щепотку. Наконец после всех усилий
получилась скрюченная лапа, похожая на грабли.
А он славно разгребал ими в прежней жизни, все и всех подравнивая под себя.
Никаких посягательств на свой мир он не терпел. Нет, он ничего такого не
делал, только отравлял сознание досадивших ему людей злыми словами, которые,
внедрившись, постепенно разрушали мозг, а потом и жизнь обидчика. В конце
концов, все выходило по его желанию: ему удавалось разрушить чужой мир и
погасить человеческое тепло холодом неприязни. Он ни о ком не думал и не
жалел, кроме старой кошки, ничто не трогало его сердца, остывшего уже давно.
Главное было в разрушении. Иногда это стороннее плохо поддавалось,
противостояло, но он не торопился – знал: зерно отчуждения заронено и
прорастает, застилая своими ростками зрение и слух. Он только смотрел, как
сторонняя жизнь становилась разговором слепого с глухим. Пустота,
появляющаяся в результате разрушения, давала ему пространство для жизни, и он
все поглощал и поглощал... Ему не нравилась другая жизнь, всюду должна быть
только его. Он и сейчас еще надеялся и ждал победы.
То, что удавалось посеять ему, вырастало и набирало силу. Неожиданно он
почувствовал, что его вытесняют. Успехи были приятны, но они же и выталкивали
его на край жизни, к помойке. Так он очутился совершенно один и без близкого
тепла. И вот теперь влажный холодок вечности овевал его еще что-то
чувствующее лицо, внешне ставшее похожим на застывшую маску. Со стороны
казалось что это бесформенное существо от кого-то обороняется, скрюченными
руками удерживая около себя остатки чего-то. Но больше оно не двигалось,
приняв уродливую позу.
Все вышло, как он хотел. Он застыл в ожидании. До весны.
И вот весна пришла. И он пополз. На четвереньках. Вокруг. Потому что около
резвящихся на площадке детей - нельзя. Левой ладонью он все время
проскальзывал, хотя вся тяжесть истлевшего за зиму тела приходилась на нее,
расположенную ниже по склону. Пальцами правой руки он цеплялся за остатки
травы, нащупывая дорогу.
Что было с ногами, он не знал. Его уже давно не интересовало то, что ниже
солнечного сплетения - вся жизнь сосредоточилась на линии груди, от левой
ладони до правой, если представить себя в полете.
О коленях, видимых большими верблюжьими мозолями, он тоже не думал, но
равномерно подтягивал их вслед ладоням, путаясь иногда в краях телогрейки.
Это замедляло движение.
Однажды он хотел подняться, но не смог, так притягивала его земля - без опоры
на ладони никак, от земли не оторваться... Он уже давно не видел дальше
своего носа. На таком расстоянии видел: землю, едва пробивающуюся травку,
цветочки мать-и-мачехи... Попадались прошлогодние листья, вытаявшие из-под
снега. И очень много было собачьих "следов". Иногда некуда было
ступить, и он влезал ладонью в это органическое месиво, обязательно
поскальзываясь и съезжая по склону вниз. Что происходило с телом, его не
занимало: главное - ноги переставлять. Так, пока он полз, весна и кончилась.
Наступило лето.
Распевающие хором и в одиночку птицы примолкли, занятые гнездовыми хлопотами.
Но это было где-то наверху, на недосягаемой высоте от того земного пути,
которым полз он. Но он поднимется - вон большие ящики впереди - рукой подать
- хорошая подставка. Вот и тепло стало - как не подняться! И он видел, как
встает с четверенек, и земля - эта грязная и загаженная земля, по которой он
мог только ползти, - осталась далеко внизу.
Подмышками он зацепился, как за костыли, за края ящиков и обратился с речью
туда, где его слышали и понимали – в пустоту. Сначала он что-то бормотал себе
под нос, настраивался, потом почувствовал себя увереннее, просторнее,
смущение ушло. Он выпрямился и посмотрел на все со своей высоты. Дальше носа
ничего не было видно, но это было и неважно. Важно было его сознавание себя
выше всех. Он почувствовал головокружение от высоты и слегка отпрянул –
далеко внизу над плотной толпой стоял гул одобрения и восхищения. Он
милостиво принимал восторги, с представительской скромностью склоняя голову
направо и налево и исполняясь собственной значительностью. И вот он попросил
тишины, направив руку вниз и вдаль. Все замирает и внемлет… Он делает вдох и
слышит свои слова: «А вы помните, что было двадцать третьего августа?!» И
повторяет это несколько раз, переставляя слова местами. Настала тишина. Он
владел ею, он держал ее указующей рукой – он выступал. Но пока он выступал,
лето кончилось – наступила осень. Случайные прохожие за плавно опускающимися
листьями видели замшелую фигуру, стоявшую у помойных ящиков и опиравшуюся на
них, как на костыли. Фигура сверкала очками, тыкала рукой в пустоту и
выговаривала что-то про двадцать третье августа… Помойка была переполнена,
отбросы плотной стеной окружали его, а он все бормотал, бормотал, ворочая
рукой мусор… К зиме все исчезло.
Цветы пьют воду только ночью…
…ночью искала я того,
которого любит душа моя,
искала его и не нашла его.
(ПП 3, 1)
Он ждал вылета. Он шел туда, где слышен зов трубы и где живешь, пока
идешь. Солнце палило нещадно. Слабый ветер едва пошевеливал листья. Все
замирало. Он откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. И увидел ее. Он
почувствовал ее. Как тогда, впервые, в приморском аэропорту.
Он заметил ее, когда ожидали автобус. Все были возбуждены, кое-кто немного
измучен перелетом, сопровождавшимся при приземлении сильнейшей болью в ушах.
У него и самого будто струна натянулась в голове, от уха к уху, и вот-вот
лопнула бы, если бы наконец двигатель не заглох. Все воспринималось, как
после взрыва, звуки доносились словно через ватную преграду, предвечернее
солнце делало ненастоящим и без того не складывающийся в единую картину
окружающий пейзаж... И вдруг она. Тревога охватила его. Какое необычное лицо!
Только что оно казалось страшным, почти ужасающим — резковатое, неровная
улыбка... И в тот же самый миг — утонченные, неповторимые линии, делающие его
неуловимо прекрасным. Он пребывал в недоумении. Она отвернулась. И тут он
понял, что все окружающее обрело форму, а ранее недоставало только линии ее
профиля. И подошедший автобус, собиравшийся отвезти их к морю, не нарушил
возникшего ощущения красоты.
Прежде, с детских времен морского отдыха с мамой, море ему нравилось.
Купание, хождение по горам, обрывание инжира, который лопался прямо в руках,
вечерние посиделки со старшими – все исчезло вместе с ней. И море не влекло,
потому что все остающиеся жить стремились к нему. Что ждет его сейчас?
Море показалось за поворотом неожиданно и всеобъемлюще. Оно заполнило все,
сверкая и ослепляя, и не было ничего, кроме моря. Он так ничего и не видел,
пока не оказался стоящим на берегу. И тогда он вошел в море, и оно приняло
его. Он нырнул и открыл глаза и прямо перед ним было песчаное дно с мелкими
ракушками. Он, как в детстве, представил себя подводным странником. Дно
удерживало, но не давало воздуха. И тогда он устремился ввысь и обомлел:
вздымающаяся, пустынная гладь, до самого горизонта – и никого. Он продолжал
буйком покачиваться на волнах, завороженный, не в силах оторваться от
увиденного, и чувствовал себя посланником Эллады: человек и море – нет в мире
большего одиночества. Ему стало холодно. Пора было возвращаться. Он поплыл на
спине. Так можно было оставаться во власти одиночества. Встав на ноги
недалеко от берега, он не стал поворачиваться, а так и шел спиной к берегу, а
лицом к морю, пока не почувствовал под ногами сухой песок. Он лег и закрыл
глаза. И увидел, что его несет обратно в море, и он летит над волнами, сидя
на кончике носового шпиля какого-то древнего корабля и смотрит вдаль в
ожидании земли. И вот что-то показалось, привиделось, возникло из воды – что-то
похожее на остров. И послышался необыкновенной красоты голос. Он возникал
постепенно, из шума волн и порывов ветра. Тихий, низкий, он, как и ветер, то
усиливался, становился выше и сильнее, то чуть ослабевал, заставляя звучать
душу, подкатывая комом к горлу и слезами подступая к глазам. Но голос вдруг
усиливался, нарастал и звенел на такой высоте, что уже восторг переполнял
душу, вырываясь прочь протяжным криком. Не хватало воздуха. Он вдохнул всей
грудью и чуть-чуть помог руками, поднимая себя вверх. И понял, что летит,
набирая и вбирая высоту. Корабль остался далеко внизу, а он дышал и дышал,
вбирая в грудь все больше и больше воздуха, и голос звучал полнее и полнее,
наполняя всю его сущность... Она звала его, и он слышал этот зов.
Очнулся он, почувствовав, что падает. Как в самолете. Голос исчез, в ушах
свистел ветер, вызывая нестерпимую боль. Сейчас лопнет голова, — было
последнее, что он чувствовал.
Они не виделись уже четыре недели, четыре времени года. Этого времени было
довольно, чтобы утратить и тоску, и желание, и нетерпение, и ощущение своего
тела, а значит, и себя. Она чувствовала его, его тело, как стену, за которой
был только покой и тепло, его дыхание как воздух, наполняющий ее, его душу
как песню, звучащую в ней. Она пела, звала, но он не слышал ее, как тогда,
как там, где были только они и море. Ее ожидание стало вечностью – она знала,
что так будет всегда.
А тогда она впервые приехала к морю. Берег был пуст. Ей хотелось встретиться
с морем наедине, чтобы никого не было. Ноги утопали, сухой песок сменился на
мокрый, и волны накатывали на него, все смывая. И она вошла в волны. И море
приняло ее. Она шла, преодолевая сильное волнение, и видела зигзаги своих
искаженных водой ног — таким чистым и прозрачным было море. И она погрузилась
в него, как в волны музыки звучавшего органа. Волны несли и поднимали ее,
чтобы тут же опустить вниз, к прозрачному дну, и опять поднять к сверкающему
на солнце до самого горизонта морю и голубому небу. От счастья сводило
дыхание, и, когда нечем стало дышать, она решила вернуться. Выходя из волн,
она ощущала себя Афродитой, рождающейся из пены. Волны и пена ваяли тело,
ветер и море наполняли душу, солнце и песок дарили тепло. Она лежала на
животе и смотрела на море сквозь очки. Глаза закрывались. Я вижу этот сон… Там
– дождь, а здесь – солнце. Иди-иди! А дождь стучал по спине, покалывая.
Постепенно в этом шуме стали различаться голоса. Смотрите, она так сгорит.
Надо разбудить. Она проснулась. Открыв глаза и увидев море, почувствовала,
что нестерпимо жжет. Скорее в воду. Она вошла в море и поплыла, снова
поражаясь прозрачности воды. Она рассекала плотную соленую воду, как корабль.
Она складывала ладони домиком и прорезала податливую толщу, разводя в стороны
руки вместе с пластами воды и устремляясь в образовавшийся проход. И она
смывала наплывающие воспоминания: мама... мама... послала отдыхать...
Врезалась в воду — поднималась, врезалась — поднималась, все дальше и дальше.
И можно было плыть и плыть, если б не надо было возвращаться. А вдруг обратно
не доплыть? И уже с трудом, преодолевая плотность воды и силу волн, — назад.
Она плыла к берегу, преодолевая небольшие волны и любуясь прозрачной водой,
сквозь которую просматривался волнистый песок. Он казался обманчиво близким,
и когда она захотела встать на ноги, то чуть не захлебнулась, не найдя под
ногами опоры. Быстро вынырнула и еще какое-то время проплыла, прежде чем
смогла встать на песок, не погружаясь с головой под воду. И вот она идет,
преодолевая сопротивление волн, выдерживая удары, от которых во все стороны разлетались
брызги. Волны на прощание облизывали ее, зазывая, а она, будто уговаривая их
отпустить, проводила рукой по гребешкам, поглаживая. Занятая этим диалогом,
она забыла обо всем: что кругом люди, что перед ней пляж, что чьи-то глаза
могут за ней внимательно наблюдать, — пока, наконец, не очутилась по колено в
воде у самого этого пляжа, где первым лежал молодой человек. Он как будто
смотрел на нее, но было что-то странно неживое в его позе. Она подошла. Он не
шелохнулся. Спит или умер? Она наклонилась над ним:
—Что с вами? Вам плохо?
— Наверное, солнце. Заснул и перегрелся. Надо бы врача.
Он идет по берегу моря. Идти очень трудно, ноги утопают в песке, но он не
один – впереди мама, и надо не отстать. Вот песок кончился, начались какие-то
заросли. Деревья и кусты все ближе подступали к тропинке, преграждая путь
своими ветвями, склоняющимися под тяжестью плодов. Особенно тяжелы были ветки
смоковниц. Он не мог не попробовать этих вкусных сочных плодов.
Останавливаясь, чтобы сорвать и съесть наполненные зернистой мякотью мешочки,
он все больше и больше отставал от мамы, которая уходила все дальше и дальше,
выше и выше в горы, и в какой-то момент он потерял ее из виду. Страх
одиночества заставил его забыть о райских плодах. Он позвал маму, но никто не
откликнулся, потом он стал звать громче и громче, и вот он уже кричал, но
никто не откликался. Тогда он побежал вперед. Тяжелые мешочки плодов хлестали
его по лицу, лопаясь и растекаясь от удара. Он ничего не видел и не слышал.
Он бежал, бежал, пока наконец не почувствовал, что вязнет ногами в песке.
Бежать стало труднее. От непрерывного крика он охрип, но продолжал кричать,
беззвучно раскрывая рот. Если бы у него был голос, мама непременно услышала
бы его, но голоса не было. Обессиленный, он упал. Песок показался ему
шелковым и таким теплым и родным, что он вжался в него и забылся в
головокружительном полете. Звезды приблизились настолько, что улавливалось их
мерцание. Стало очень холодно. И тут вдруг теплая рука легла ему на голову,
укрыв от холода и света. Послышался чудный голос, поющий красивую мелодию. Он
увидел себя лежащим на морском берегу под крылом большой птицы с женским
лицом. Птица пела. Когда он пригляделся к ней, то узнал маму. Но тут
вторглись чужие резкие звуки, и картина рассыпалась.
Очнулся он на песчаном берегу. Вокруг, словно длинноногие птицы, ходили
люди и говорили на непонятном наречии. Волны равномерно шумели, гулко
отдаваясь эхом в тяжелой голове. Было так тихо, что начало звенеть в ушах.
Еще мгновение — и голову разорвало бы от нестерпимого звона, как вдруг сквозь
свист и шум послышался чудесный голос. Из моря, куда он смотрел, чтобы не
видеть людей, из пены волн поднималась и шла к берегу прекрасная Афродита.
Волны поддерживали ее, создавая из брызг радужный защитный ореол, оберегающий
от солнца. Нежная кожа казалась мраморной... Тут волны расступились у ее ног,
и она шагнула прямо к нему, обдавая морской прохладой. А голос звучал,
замирая на самых нежных нотах и перерастая в разрывающий голову свист. Как в
самолете, — успел подумать он.
—Что с вами? — услышал он и открыл глаза. — Вам плохо?
Рожденная из пены склонилась над ним, и он узнал ее.
— Перегрелся, — услышал он.
Она, — подумал он.
— Что с ним?
— Наверное, солнце. Заснул и перегрелся. Надо бы врача.
— Бедный, не знает, что нельзя спать на солнце.
Он не понимал, что происходит. Хотел встать, но не мог. Ему было неловко, но
слабость во всем теле извиняла его в собственных глазах. Звон или звуки
чудесного голоса еще звучали в голове.
Все оставшееся им у моря время они не расставались – две давно стремящиеся
навстречу души. Днем они подчинялись всеобщему распорядку и вместе со всеми
трижды выходили к столу, просиживали положенные часы у моря в тени зонтиков,
спали в жаркие полуденные часы, ездили вместе со всеми на экскурсии. А когда наступала
темная южная ночь, они не могли оторваться друг от друга, утоляя неутолимую
жажду самого упоительного упоения друг другом. Тьма скрывала неверность
линий, и очертания мерцающих форм были совершенны. Это совершенство
подпитывалось внутренним светом каждого и расцветало вечным цветком взаимного
притяжения. Они обнимали небо и прорастали в него, и не было ничего, кроме
этого движения ввысь.
Мир существовал, пока они были вместе. Казалось, что это навсегда, но ей
пришлось уехать первой по указанному числу в сопроводительной бумаге. Она
вернулась к маме. Она знала, что он приедет, надо только немного подождать.
Она ждала, она звала его своим голосом души. Он позвонил, когда ждал вылета.
И она поняла, что никогда не увидит его и останется в вечной печали ожидания.
Он уезжал позже, в никуда, не имея сил не подчиниться указанному числу. Он
знал, что может поехать только к ней, и он ехал к ней, освобождаясь по пути
от всего, что могло бы препятствовать этому движению. Его сущностью стало это
движение к ней, и вот он сидел в аэропорту, ожидая вылета, и понимал, что не может остановиться. И тогда он сел в самолет, уносящий его туда, где слышен звук трубы, оставаясь в вечном стремлении двигаться на ее зов. В глаза ему ярко светило солнце.
Здесь напряжение струны столь велико,
и музыка Любви так услаждает,
Что хоть и веет дух Петрарки высоко,
А эта Красота его сбивает.
***
Приятно погреться и у чужого огня -
Спокойнее и прелестней, -
Можно неспешно, смакуя, выпить чашу вина
И прочитать Песнь Песней...
На главную страницу
|
|